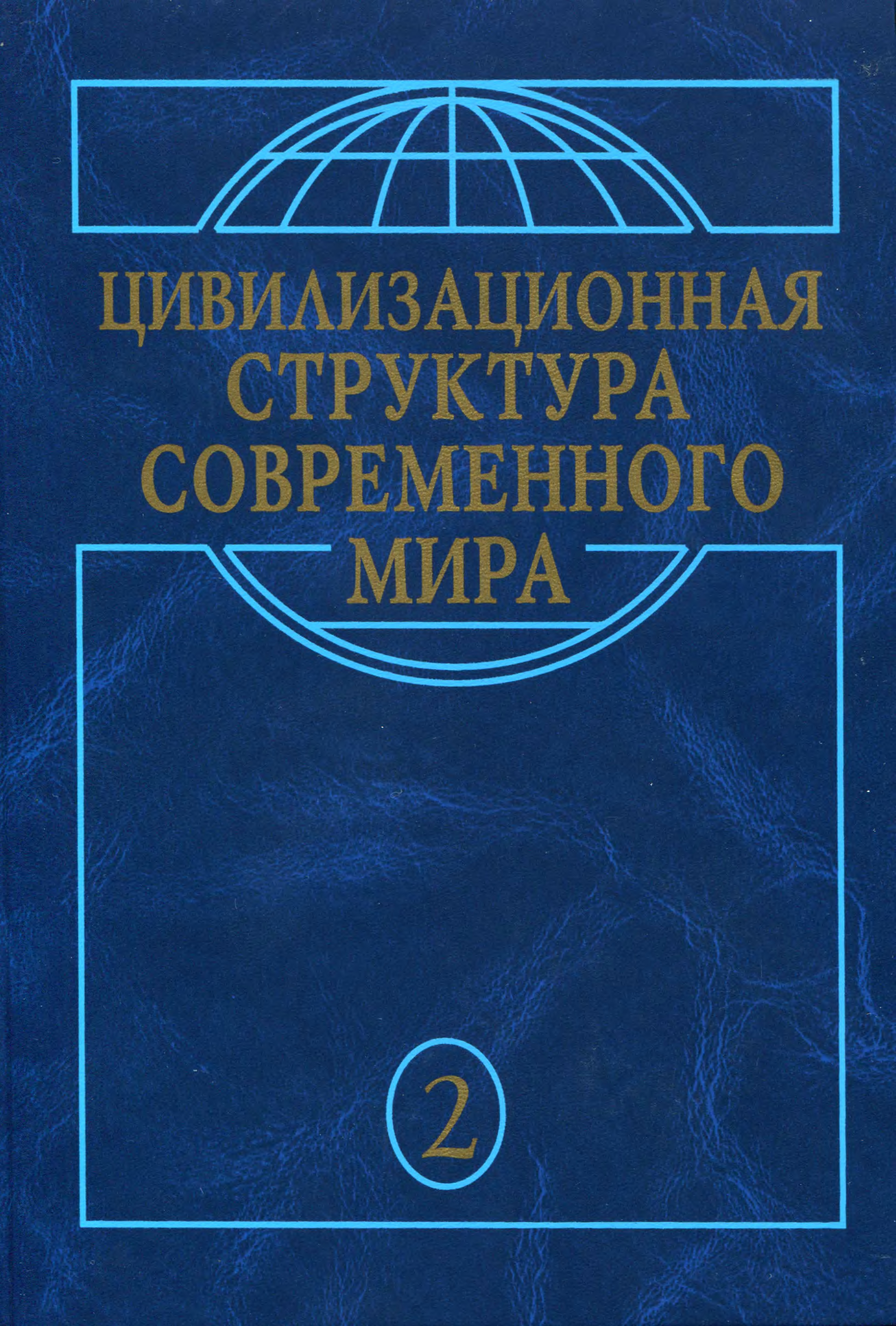Книга: Макрохристианский мир в эпоху глобализации
«Советский народ» и постсоветская историко–культурная общность (Ю. В. Павленко)
«Советский народ» и постсоветская историко–культурная общность (Ю. В. Павленко)
Идея «советского народа» впервые прозвучала в выступлении Н. С. Хрущева на XXII съезде КПСС, в 1961 г., но не получила еще отражения в его итоговых документах. Последнее состоялось на следующем, XXIII съезде, уже при Л. И. Брежневе. Вокруг этого термина партийные идеологи и советские обществоведы (многие из которых теперь рядятся в демократов или националистов: в какой республике что выгоднее) раздули типичную для тех лет пропагандистскую шумиху, однако никакой научной концепции существования данной общности разработано ими так и не было. Последние упоминания этого термина относятся к финальным перестроечным годам, в частности, если брать партийные документы, он, похоже, последний раз встречается в резолюции сентябрьского (1989 г.) пленума ЦК КПСС705.
Дискуссия о том, «а бьш ли мальчик», развернулась сперва, еще робко, в позднеперестроечных выступлениях706, а затем уже в российских изданиях после распада СССР707. Однако политическая заангажированность практически всех участников ее обсуждения «научности» в решении этого вопроса не прибавила. Правда, одна новая и, как кажется, продуктивная мысль прозвучала: А. С. Барсенков, А. И. Вдовин и В. А. Корецкий выдвинули тезис, что в дореволюционной России уже формировалась такая общность, которую затем «открыли» под именем «советского народа»708.
Дальнейшие рассуждения в пользу того, что понятие «советский народ» в значении политической нации (пусть и не вполне сформировавшейся) существует, находим в работе С. В. Чешко709. Он вполне резонно замечает, что среди факторов, способствовавших формированию надэтнической общности (типа «американской нации») в СССР, следует прежде всего отметить принадлежность к единому государству и достаточно длительную традицию единой государственности — более длительную, чем период существования самого СССР. Далее идет речь о внедрявшейся в годы советской власти в сознание населения общих идей, а тем более — символов и стереотипов. Этому служили не только искусственные идеологемы, но и, реально, общая система образования, профессиональной культуры, урбанизированного (массового со времен индустриализации) образа жизни, обслуживавшаяся преимущественно русским языком. А последнее вело к его массовому распространению среди нерусских народов, благодаря чему в стране существовала единая система коммуникации.
На практике это означало не столько ассимиляцию (русификацию) других народов (судя по статистическим данным, приводимым С. В. Чешко, ей подверглось не более 10% среди большинства народов, кроме малых народов Сибири и Севера, с одной стороны, и малочисленных групп, чьи национальные территории находились за пределами СССР — немцы, греки и пр., — с другой), сколько типичный в современном мире билингвизм.
Такие соображения позволили ученому сделать следующий вывод: «... официальная концепция советского народа была чрезмерно идеологизированной, помпезной, наивно–претенциозной, как и многие другие “концепции” той эпохи. Однако она не была полностью неверной, поскольку существовал сам советский народ как народ–общество, продукт длительного развития единого государства. Степень “советскости” была, наверное, неодинаковой у разных народов, у разных групп этих народов, у отдельных индивидов. Разные типы группового самосознания могли соотноситься по-разному. Но это довольно обычное явление для многих стран. С точки зрения принятых в современном мире понятийных норм следует признать не только реальное существование в СССР “советского народа”, но и признать его в качестве обычной полиэтнической нации».
Описанный процесс имел глубокие исторические корни. Уже Московское царство, тем более неизменно расширявшаяся Российская империя, с достаточной легкостью включало (впрочем, не больше чем Византийская империя или Арабский халифат, Османская империя или империя Великих Моголов, хотя и гораздо легче, чем, скажем, колониальные структуры Англии или Франции) в свой высший, правящий и культурный слой выходцев из других народов. Это относилось уже к переезжавшим на службу в Москву или покоренным ею татарам или выходцам из Великого княжества Литовского (достаточно вспомнить княжеские дома татарского — как Юсуповы, или литовского — как Трубецкие или Куракины, оба рода — из Гедиминовичей, происхождения).
Со второй половины XVII в., в особенности же с начала XVIII в., наблюдается массовая инкорпорация в российскую элиту образованных выходцев из Украины и Беларуси (Ф. Прокопович, С. Яворский, Симеон Полоцкий, Дмитрий Ростовский и пр.), а также немцев. В дальнейшем сюда вливались французы и армяне, поляки и грузины, молдаване и казахи, при Петре I, а затем и позднее — евреи и пр. Так что к концу правления Романовых правящий и культурный слои Российской империи были представлены людьми самых различных национальностей, среди которых наиболее многочисленными (кроме, естественно, русских) были, очевидно, украинцы, затем — прибалтийские немцы, и далее армяне, грузины, поляки, евреи и пр.
При этом в условиях существования империи (как и любого другого централизованного многонационального государства) вполне естественной была организация образования и просвещения, развитие научно–технических дисциплин и пр. на одном государственном и понятном большинству населения языке — русском.
Это, конечно, никоим образом не оправдывает запреты (после подавления Польского восстания 1863–1864 гг.) на преподавание и книгоиздание на украинском, белорусском и литовском языках. Однако в данном случае речь идет не об опенках такого рода дискриминационных действий царского правительства, принесших вред в первую очередь ему же самому, а о констатации реальности вовлечения в образованную и социально активную, в том числе — правящую, среду Российской империи представителей различных населявших ее народов, и не только близких по происхождению, культуре и языку, как украинцев, но и представителей более отдаленных этносов — как, скажем, армян М. Т. Лорис–Меликова и И. К. Айвазовского или казаха Ч. Ч. Валиханова.
Полиэтничная, начавшая формироваться в Российской империи, политическая нация основывалась на единой централизованной государственности (представители ее автономных частей — Царства Польского, Великого княжества Финляндского, Бухарского эмирата и Хивинского ханства — в данный процесс втягивались менее интенсивно), а также общей, русскоязычной, системе образования и культуры. Идеологическое единство декларировалось лишь на уровне верности правящему дому, но не конституировалось даже относительно приверженности государственной религии — православию (при том, что ограничения социального продвижения представителям ряда конфессий, в частности — иудаизма, были).
Несмотря на то, что образование практически повсеместно было русскоязычным, представителям нерусских народов из средних и, тем более, высших социальных слоев дорога к знаниям, званиям и должностям вовсе не была закрыта. Но, избирая ее, молодые люди автоматически интегрировались в формировавшуюся общероссийскую политическую нацию.
Такого рода тенденции с гораздо большей силой проявились в годы советской власти. Общим остались, получив дальнейшее углубление, единая (превратившаяся из авторитарной в тоталитарную) наднациональная государственность (с национально–государственными и этно–автономными образованиями в ее структуре); общая система образования на русском (или с обязательным владением русским) языке, охватившая теперь самые широкие слои практически всех входивших в состав СССР народов; значительно интенсифицировавшиеся личные, культурные, научные, профессиональные и другие контакты между разноэтничными гражданами Советского Союза.
Однако десятилетия большевистского правления внесли и много нового.
Прежде всего следует отметить стремление навязать гражданам СССР идеологическую общность, обратной стороной чего была борьба с традиционными религиями, народными праздниками, обычаями и пр. (с русскими, при этом, не менее чем с украинскими, еврейскими, латышскими или татарскими). В сущности, был взят курс на создание советского полиэтничного цивилизационного единства, что предполагало ликвидацию прежней (восточнохристианской, мусульманской и пр.) цивилизационной идентичности народов, оказавшихся в границах СССР, а также в зоне его прямого влияния (от Чехословакии и ГДР до Монголии и Кубы).
Но на коммунистически–атеистической идейной основе достичь этого было в принципе невозможно, поскольку такая идеология, если и могла сперва искренне увлечь некоторые горячие молодые головы, то вскоре продемонстрировала свою полную неспособность не только обеспечить пристойную материальную жизнь (хотя этого не сделало и православие или, скажем, буддизм), но удовлетворить глубинные духовные запросы людей, дать ответы на вечные мировоззренческие вопросы — о смысле жизни, Боге, бессмертии души и пр. А их решения как раз и лежат в фундаменте великих религиозно–духовных учений, без которых существование той или иной развитой цивилизации немыслимо.
Вторым моментом была насильственная, беспрецедентная сравнительно с прежними временами (потом это по-своему повторялось в Китае, Северной Корее, Кампучии–Камбодже и пр.) по своей бесчеловечности, социально–экономическая трансформация общества. Речь идет даже не об известных массовых репрессиях против интеллигенции, духовенства, самих же партноменклатурщиков и красных военных, а о таких взаимосвязанных явлениях, как коллективизация, индустриализация и промышленная урбанизация.
Массы крестьян различных национальностей (в особенности — русские и украинцы, чьи традиционные жизненный уклад и хозяйственно–бытовая культура были разрушены) оказались на «стройках первых пятилеток». Здесь они образовывали этнически маловыразительную, но пользовавшуюся преимущественно русским языком (не только в собственно России, но и в Украине, Казахстане и пр.), пролетарскую, полуурбанизированную массу, потерявшую прежние (традиционные, народные) ценностно–нормативные установки, но не приобретшие в большинстве своем никаких других.
Далее эти и другие люди разных национальностей оказывались на фронтах Великой отечественной войны, в лагерях и колониях спецпереселенцев, где общим был, естественно, русский язык. Их дети получали среднее и часто высшее образование преимущественно на русском языке, что в те годы большинством воспринималось как нечто совершенно естественное, поскольку свободное владение русским языком открывало путь и к профессиональной карьере, и к переведенным на этот язык сокровищам мировой культуры.
Все это, как и многое другое, дало тот феномен, который официальная идеологическая машина назвала «новой исторической общностью — советским народом», а сами люди, ощущая соответствующую надэтническую реальность, определили словами «совок», «совки». Такое уничижительное самоопределение им, понятно, никто не навязывал.
Более того, чувство «советскости» («совковости») многими гражданами СССР (как русской, так и нерусской национальностей) воспринималось как некое прирожденное клеймо, формируя у некоторых граждан своеобразный комплекс неполноценности. Такие люди начинали стыдиться своей «совковости», что становилось заметным со второй половины 1970?х гг. И это, очевидно, сыграло немалую роль в позднеперестроечные годы, когда в качестве антитезы «советскости–совковости» национально ориентированные политические и культурные деятели стали активно пропагандировать первостепенность национальной (в смысле этнокультурной, а часто и по «крови и почве») идентичности.
Обвальный крах СССР способствовал процессу переориентации идентичностей в национальную плоскость, а средства массовой информации большинства постсоветских государств сразу же после провозглашения их независимости активно принялись закреплять в массовом сознании ценности этно–государственной идентичности, не понимая, как правило, что современные нации создаются не на основе этноязыковых признаков (что, естественно, тоже немаловажно), а на общегражданском, в пределах государства как социально–политического организма, единстве людей безотносительно к их национальному происхождению.
Но такие пропагандистские усилия (тем более при катастрофическом ухудшении качества жизни абсолютного большинства граждан новых государств в течение первого десятилетия их независимого существования), вполне закономерно с теоретической точки зрения, но неожиданно для национал–радикалов, стали давать (в частности, в Украине) противоположный эффект.
Оказалось, что для основной массы обитателей Украины, восточных и южных, а также в значительной мере, и в центральных областях, ценности и приоритеты советского времени (при этом вовсе не заидеологизированные, как это иногда хотят представить) — минимальная социальная защита, скромный, но гарантированный достаток и пр. куда важнее, чем этнонационально–языковые ценности.
Первостепенная для многих жителей преимущественно западных и, отчасти, центральных областей национально–языковая самоидентификация оказывается далеко не главной в ценностной системе представителей других регионов Украины. Поэтому важно понять, почему в одном случае национально–языковая идентичность исторически столь важна для людей, а в других не является ценностным приоритетом.
Объясняется это вполне определенными историческими, культурцивилизационными причинами.
В Западной Украине, в особенности же в Галичине–Галиции, входившей в качестве периферийной зоны в Западно–Центральноевропейскую общность в течение шести веков, этническая принадлежность была жестко связана с другими статусными позициями индивида и в значительной, если не в решающей, степени определяла жизненные возможности человека. Поляк разговаривал по-польски, был преимущественно «паном» — господином–землевладельцем или представителем свободных, по крайней мере, престижных профессий, в большинстве своем — шляхтичем, неизменно — католиком, пренебрежительно относился к русину (украинцу). Еврей был иудеем, разговаривал на идиш, а также по-польски и, обычно, хуже, по-украински в его западном варианте, был чаще всего откупщиком–арендатором, управляющим в поместье, мелким торговцем–перекупщиком или ростовщиком, а значит, с точки зрения галицкого крестьянина, он также оббирал его. Наконец, русин был в абсолютном большинстве случаев крестьянином, разговаривал на западноукраинском диалекте, исповедовал греко–католицизм. Но незначительная часть русинов, преимущественно из семей священников, получала образование, составляя костяк формировавшейся национальной интеллигенции.
В такой обстановке попытка перейти на другой язык или в другую веру воспринималась как измена, к тому же не имевшая обычно практического смысла: свои такого человека обычно отторгали, а чужие полностью в свой круг никогда не принимали. Немногочисленные представители других народов монархии Габсбургов, проживавшие в западноукраинских областях, прежде всего — австрийские немцы, были связаны с имперской администрацией, занимались бизнесом или являлись представителями свободных профессий. Они стояли как бы над (или вне) этой традиционной для региона трехслойной структурой, исповедуя преимущественно католицизм и общаясь на немецком языке.
Национальность, таким образом, заведомо определяла круг знакомств и профессиональную ориентацию, доступ к той или иной культурной традиции, возможности социального продвижения и т. д., короче — траекторию и допуски жизненного пути. При этом каждая этническая группа занимала определенный общественный ранг, в частности русины — низший, что было тем более оскорбительным, что они, живя на земле своих предков, составляли там большинство населения.
Отсюда — стремление объединиться по национальному признаку и улучшить свое положение, тем более что относительно либеральная, вполне соответствовавшая духу Запада второй половины XIX — начала XX вв. политическая система Австро–Венгрии, с одной стороны, и стремление австрийского правительства поддерживать «паритет сил» между поляками и русинами для игры на их противоречиях с целью прочнее удерживать этот край, с другой, благоприятствовали созданию национальных партий, союзов и товариществ.
Таким образом, жесткая национально–языково–конфессионально–культурно–социальная сегрегация при возможности политической консолидации по национальному признаку создавала тип национально акцентуированного человека, в первую очередь идентифицировавшего себя как личность со своим народом. И это вполне проявилось, когда австрийская власть, после кровавой борьбы западных украинцев с поляками, сменилась и в Галиции, и на Волыни (бывшей до того под властью России) практически оккупационным режимом междувоенной Польши, на смену которому пришли куда более репрессивные режимы — советский, нацистский и опять, в конце Второй мировой войны, советский.
Но здесь, в отличие от уже пережившей коллективизацию и голодомор остальной территории Украины (в составе УССР), массовые конфискации и репрессии встречали вооруженное сопротивление, а само противостояние новой власти и прибираемого ею к рукам населения осмысливалось последним сугубо в национальных категориях: пришли «русские»... И страдания, принесенные «советами», отложились в народной памяти на десятилетия. А зверств в ходе разгоревшейся партизанской войны достаточно совершалось с обеих сторон.
Принципиально иным было положение украинцев в Российской империи. Национальный язык в образовании и печати с 1864 г., еще более жестко с 1876 г., до 1905 г. был запрещен (правда, эти запреты часто нарушались) так же, как и право объединяться в политические партии (тем более по национальному признаку). Царская власть (как и большинство российской интеллигенции того времени) не признавала существование отдельного украинского народа, рассматривая его в качестве малороссийской ветви (наряду с другими — великорусской и белорусской) единого русского народа.
Однако украинское происхождение как таковое, при условии свободного владения русским литературным языком (что при близости языков и организации всего образования на русском языке было несложно) и политической лояльности, никоим образом не являлось препятствием в деле социального продвижения. К тому же, основными официально признанными различиями между людьми в Российской империи были конфессиональные и сословно–имущественные.
В религиозном отношении украинцы (в пределах державы Романовых) были православными, как и русские. Аналогичным образом они вполне были представлены во всех социальных слоях российского общества — от высшей аристократии (Кочубеи, Скоропадские и пр.), через церковных деятелей, учителей–просветителей и, затем, творческую интеллигенцию (среди которых они заняли прочные позиции с петровских времен и даже ранее, еще при Алексее Михайловиче), рядовое дворянство (вспомним И. Котляревского, П. и С. Гулаков–Артемовских, Н. Гулака, Е. Гребинку, гоголевских старосветских помещиков и пр.) и крупную буржуазию (род Терещенко, В. Симиренко и пр.) до мещанства и крестьянства.
Таким образом, национальная принадлежность украинцу (как и белорусу) в пределах Российской империи не ставила препятствий на жизненном пути так же, как и не давала преимуществ (по сравнению с русским). А поэтому она и не имела для большинства особого значения, по крайней мере не становилась основным параметром самоидентификации.
Общность религии и, в высокой степени, надэтнического слоя культуры (наука, искусство и пр.), близость и взаимопонятность языков (при свободном владении образованными украинцами русским литературным языком), принадлежность к одним сословно–имущественным разрядам по всей вертикали их иерархии, совместное проживание (массово — в городах), что в совокупности способствовало повседневным дружеским, брачным, деловым, профессиональным и пр. контактам, сближало и смешивало украинцев и русских на обширных пространствах (особенно в южных регионах Восточной Европы, но также в Петербурге, Москве и т. д.) Российской империи, а позднее СССР. А это исторически определяло иное значение этнонационального фактора в жизни Российской империи (и СССР), чем в условиях Австро–Венгрии или междувоенной Польши.
В пределах преимущественно Православно–Восточнославянского (постправославного) мира, но со значительным присутствием представителей многих других народов (евреев, армян, татар, казахов и пр.) реально сложилась наднациональная, в конечном счете пусть даже советская, общность, принадлежность к которой ощущают и сегодня многие русские, белорусы, украинцы незападных областей, представители иных народов.
Но в пределах той же Украины (как и, скажем, в прибалтийских государствах, бывших независимыми в период между войнами) население западных областей не чувствовало и, тем более сейчас, когда СССР распался, не чувствует своей причастности к этой надэтнической целостности, выполнявшей в некотором смысле функции политической нации, а ныне сохраняющейся в качестве историко–культурной общности. И такой конфликт ценностей и идентичностей находит свое прямое выражение в политической жизни, и не только Украины, но и, в иных формах, России, Беларуси, прибалтийских государств, Казахстана и пр., практически на всем постсоветском пространстве.
Этнический анализ структуры постсоветско–евразийского пространства качественно дополняет проделанный ранее цивилизационный. С учетом же евразийской доктрины и геополитических реалий, а также предложенной ранее концепции Макрохристианского мира мы можем суммировать представления по вопросу об идентичности Восточноевропейско–Евразийского пространства.
В конце XX в. на мировой арене действуют все более не столько отдельные государства (хотя и роль наиболее мощных среди них — прежде всего США, а также Японии, Китая, Индии, России, Бразилии и пр. весьма велика), сколько группы государств, причастных к общей цивилизационной или субцивилизационной традиции. Примером тому служит Европейский Союз. К тому же, но пока с гораздо меньшим успехом, стремятся мусульманские (в особенности арабские) государства, страны Латинской Америки, в некотором отношении имеющие различную цивилизационную идентичность государства Юго–Восточной Азии, Тропической Африки и пр.
Та же тенденция, реализуемая пока что далеко не наилучшим образом, была заложена и в идее СНГ, а позднее в ныне пробуксовывающем проекте Единого Экономического Пространства (ЕЭП) в составе России, Украины, Беларуси и Казахстана. Вопреки громогласным декларациям большинства прежних и нынешних (после президентских выборов 2004 г.) высокопоставленных украинских политиков о скорейшем присоединении к Европейскому Союзу, руководство последнего четко и официально на длительное время определило свое отношение к Украине как к «соседу» (в том же статусе фигурируют Марокко, Алжир, Тунис, Ливан, даже еще не существующая в качестве субъкта международных отношений Палестина и пр.). На Западе нас никто не ждет в силу как разительного несоответствия Украины стандартам ЕС практически по всем основным позициям (кроме, разве что, образовательного уровня населения), так и нашей цивилизационной инородности, более явственной (вне западноукраинских областей), чем в православных Румынии или Болгарии, не говоря уже о Греции. Поэтому игнорировать поиски и перспективы сближения с другими постсоветскими странами было бы преждевременно.
Решение вопроса об историко–культурной идентичности Украины, как и России с Беларусью, возможно лишь при учете ряда факторов, среди которых наиболее существенными является их принадлежность (как и Грузии, Армении, ряда регионов Казахстана) постсоветскому пространству Макрохристианского мира, славянской (собственно — восточнославянской) макроэтнической общности, Восточнохристианскому цивилизационному пространству и, наконец, к преемственно связанным евразийским, старороссийской и советской, а также нынешней СНГовско–постсоветской географически–хозяйственно–политико–культурным системам. Остановимся на характеристике этих моментов.
Неоднократно дискутирующийся вопрос о том, является ли Россия, Украина или, скажем, Грузия «европейскими» или «неевропейскими» державами, целесообразно было бы перенести в плоскость обсуждения их соотношения, Во?первых, с Макрохристианским миром и, Во?вторых, с собственно в основе своей романо–германской, протестантско–католической цивилизацией Западнохристианско–Новоевропейско–Атлантического мира. Тогда станет очевидно, что мы, как и Латинская Америка, принадлежим к Макрохристианскому миру, однако в пределах его Восточноевропейско–Евразийский регион (как та же Латинская Америка) суть нечто принципиально иное по сравнению с Западом.
Сказанное определяет ошибочность первостепенной идентификации трех основных восточноевропейских (восточнославянских) народов с макрославянской общностью, хотя и не отменяет реальности и исторической актуальности последней. Общеславянское измерение существенно в языковой, этноисторической и культурно–бытовой (в первую очередь, на уровне крестьянских традиций) плоскости. Однако различные регионы восточно–славянского мира совместно с другими славянскими и отдельными неславянскими народами образуют специфические историко–хозяйственно–культурно–бытовые круги взаимопересекающихся общностей. Достаточно сравнить, например, болгар, чехов и русских.
На цивилизационном же уровне сам славянский мир уже почти тысячелетие достаточно четко разделен между Восточнохристианским и Западнохристианским, а где-то с конца XV–XVI вв. — и Мусульманским (боснийцы) мирами. Это последнее различение практически во всех историко–политических коллизиях (русско–польских, польско–украинских, сербско–хорватско–боснийских) оказывается куда более существенным, чем эфемерная общеславянская солидарность, проявляющаяся главным образом лишь при совпадении этнического и конфессионального моментов (русские и сербы).
Факт религиозной (при всей пониженности конфессионального начала на территориях большинства бывших социалистических государств в период коммунистического господства, за исключением, разве что, Польши) родственности народов является обычно существеннейшим моментом при определении цивилизационной идентичности. Однако он сам по себе, особенно на евразийско–постсоветском пространстве, не может считаться самодостаточным.
В своем большинстве русские, украинцы и белорусы как верующие среди них, так и неверующие, традиционно принадлежат к Восточнохристианскому миру (при всем том, что в западных областях Украины преобладает греко–католическое вероисповедание). В этом смысле восточнославянские народы сопричастны поствизантийско–восточнохристианскому наследию так же, как грузины и армяне, румыны и греки, сербы и болгары, молдаване и македонцы и пр.
Однако едва ли отнесение современных русских и, скажем, греков, не говоря уже об эфиопах, к одной цивилизации было бы оправданным. Относительно сегодняшнего Восточнохристианского мира правомернее было бы вести речь как о постцивилизации, чем как о реально функционирующей цивилизационной системе.
Греция пребывает в Объединенной Европе и в НАТО, а Румыния с Болгарией, являясь членами Североатлантического альянса, в ближайшее время должны войти и в ЕС. Армения, на антиазербайджанско–антитурецкой основе, обманувшись в своих надеждах на помощь со стороны Запада, которому проливы и базы в Турции, как и азербайджанская нефть, оказались дороже древней культуры едва ли не первого христианского народа, ищет сближения с Ираном и опирается на помощь России. Грузия, после ухода с политической арены Г. Шеварднадзе, демонстративно проводит проамериканскую политику, однако ее шансы вступить в НАТО, тем более стать членом ЕС, в обозримом будущем мизерны.
Украина своими двумя головами, западной и восточной, смотрит в прямо противоположные стороны, притом что большая часть ее граждан хотела бы, чтобы страна присоединилась к Европейскому Союзу (что пока маловероятно), но возражает против вступления в НАТО. То же можно сказать и о Беларуси, разве что ее смотрящая на восток голова гораздо больше и сильнее, чем та, что придерживается прозападных настроений.
Существеннейшим фактором цивилизационной идентичности Восточноевропейско–Евразийского пространства следует считать сложившиеся здесь традиционные экономико–географические, политические и культурные, а также межличностные (родственные, дружеские, професионально–коллегиальные) отношения между соседними, входившими в состав царской России и СССР, народами и их отдельными представителями. Это относится и к этническим общностям различной макроязыковой и религиозной принадлежности, как, скажем, к русским и волжским татарам, башкирам или казахам. Особое значение для Украины приобрела проблема поставок и транспортировки через ее территорию нефти и газа преимущественно российского и туркменского, но также казахского, а в перспективе, возможно, и азербайджанского происхождения.
Совершенно очевидно, что большинство наиболее многочисленных народов Восточноевропейско–Евразийского пространства действительно связаны общей судьбой — причем (на уровне их предков) с золотоордынского или даже скифского времени, тем более с первых десятилетий существования державы Романовых. С веками эта связь усиливалась, и в XIX–XX вв. товарообмен по линии «север — юг» (лес — лесостепь — степь — речные дельты, приморья и предгорья), как, тем более, миграционные потоки и распространение европеизированно–русскоязычного образования, был дополнен направлением «запад — восток» (фабричные, заводские и сельскохозяйственные товары, полезные ископаемые, а сегодня энергоносители). Важнейшим интегрирующим моментом было создание в пределах Российской империи — СССР общей для всех системы светской культуры, науки, образования и пр., возвышавшейся над конфессиональными и национальными различиями.
Взаимосочетаемость отмеченных параметров (евразийско–постсоветского, цивилизационно–конфессионального и национального) определяет степень сущностной близости различных народов и регионов постсоветского пространства (с ближайшими к нему и исторически связанными с ним территориями). В широком круге Макрохристианского мира, точнее, его восточной по отношению к Западу зоны, мы видим взаимопересекаюшиеся эллипсы, условно говоря, евразийской, православно–постправославно–постсоветской и восточнославянской идентичности. Пространство их взаимоналожения (охватывающее большинство, без западных, областей Украины, Беларусь, основные, кроме нескольких автономий, регионы Российской Федерации, и в значительной степени Казахстан и Кыргызстан, в особенности их северные части) и образует центральную зону надэтнической и надконфессиональной, имеющей цивилизационные характристики, постсоветско–евразийской общности как восточной составляющей Макрохристианского мира на его современном этапе.
Наличие такой общности определяет вектор объективной потребности и потенциальной, в долгосрочной перспективе, возможности интеграции прежде всего четырех постсоветских республик — Беларуси, Казахстана, Российской Федерации и Украины, о чем уже приходилось писать ранее и что было намечено в 2004 г. намерением этих государств создать ЕЭП. Однако ему препятствуют геополитические амбиции России В. В. Путина и односторонне–прозападная ориентация новой украинской власти, пришедшей к власти в январе 2005 г. В политическом отношении Россия заинтересована в восстановлении, хотя бы частично, своего контроля над постсоветским пространством, а в экономическом — в замыкании на себя экспорта его энергоресурсов, а значит, и участие в их эксплуатации вне собственной территории. Однако то и другое, особенно первое, ей пока плохо удается. К тому же, российскому руководству не может нравиться и вполне самостоятельное поведение Туркменистана и Узбекистана, а также попытки Азербайджана, Грузии, Украины и Молдовы (сперва совместно с Узбекистаном), при поддержке со стороны США, создать в рамках СНГ новую политическую структуру — ГУАМ, пока что не отличающуюся эффективностью.
Наблюдаем парадоксальную ситуацию. С одной стороны, СНГ объективно необходимо для многих составляющих его государств. Более того, как показал проведенный выше анализ, основная масса населения Беларуси, Украины, Российской Федерации и Казахстана в достаточно высокой степени близка друг другу на наднациональном уровне. Это также, но в меньшей степени, относится и к жителям других постсоветских государств.
Однако, с другой стороны, в рамках СНГ, особенно после смен власти в Грузии, Украине и Кыргызстане, усилились процессы взаимоотторжения образующих его государств. Связаны они, кроме их естественного различия в социально–экономической, конфессиональной, языковой и других сферах, также с сугубо политическими и цивилизационными обстоятельствами. Во?первых, это стремление России к гегемонии, вызывающее оправданные опасения у других членов Содружества, некоторые из которых пытаются заручиться поддержкой со стороны США и ЕС. Во?вторых, это то, что пространство СНГ перекрывается широким сектором Мусульманско–Афразийской цивилизации в Центральной Азии и Закавказье (как и на территории Российской Федерации — Среднее Поволжье, Предуралье, Северный Кавказ), а также преимущественно в лице Западной Украины сопричастно Западноевропейско–Североамериканской цивилизации (в силу как длительного пребывания в составе центральноевропейских государств, так и наличия многочисленной, происходящей преимущественно из этого региона, украинской диаспоры, активно пополняемой в течение всех лет независимости «заробітчанами», главным образом также западноукраинского происхождения).
Традиции соответствующих цивилизационных миров, пусть даже в их периферийных и синкретических формах, часто (как в Западной Украине) во многих своих базовых принципах несовместимы с российско–евразийскими установками, а потому порою вызывают эмоциональную реакцию отторжения. К тому же, не забыты еще жертвы советского террора, в котором националистическое сознание обвиняет не советско–большевистскую систему как таковую, а именно Россию и русских. Все это, особенно в силу высокой активности малочисленных, но чрезвычайно активных, «пассионарных», выражаясь терминологией Л. Н. Гумилева, националистов, может иметь (а отчасти и имеет) серьезные политические последствия.
Таким образом, учет цивилизационного фактора помогает более адекватно оценить сегодняшние политические реалии не только в глобальном масштабе, но и собственно в рамках СНГ, более того, практически в каждом из его отдельно взятых государств. Социально–экономическая катастрофа, пережитая Украиной в 1990?х гг., не в последнюю очередь определялась ложностью навязываемых растерявшемуся, деморализованному и все более дезинтегрирующемуся обществу, как и зачастую недостаточно образованным представителям властвующего сообщества, представления о нашей цивилизационной идентичности. Такая опасная тенденция с новой силой проявляет себя с начала 2005 г.
- Цивилизационная структура постсоветского пространства (Ю. В. Павленко)
- Древнерусская субцивилизация Византийско–Восточнохристианского мира (Ю. В. Павленко)
- Восточнохристианская цивилизационная система и Православно–Восточнославянская цивилизация (Ю. В. Павленко)
- «Советский народ» и постсоветская историко–культурная общность (Ю. В. Павленко)
- Цивилизационные аспекты экономических реформ на постсоветском геополитическом пространстве (В. С. Будкин)
- Экономические трансформации в странах СНГ на фоне мировых цивилизационных процессов (Ю. В. Павленко, О. Б. Шевчук)
- Последствия применения «шоковой терапии» в странах СНГ и государствах Центральной Европы (Ю. Н. Пахомов)
- Дискредитации идеи рыночных реформ в Украине 1990?х гг. (Ю. Н. Пахомов)
- Постмодернистская мифологизация национальных историй в Российской Федерации (В. А. Шнирельман)
- Квазимифологизация истории Украины (Н. С. Бондаренко)
- Русская православная (Восточнославянско–Православная) цивилизация в прошлом и настоящем (С. Л. Удовик)
- Структура и эволюция сетей: всеобщность степенного закона и стоящие за ним фундаментальные процессы
- Как один малоизвестный советский ученый открыл секрет одомашнивания
- Советский флаг под Полярной звездой
- Советский электронный микроскоп
- Советский мардер
- Советский человек в поисках смысла
- Национальное знание и международное признание: постсоветская академия в борьбе за символические рынки
- Как добыли советский радий
- А.9. Советский период