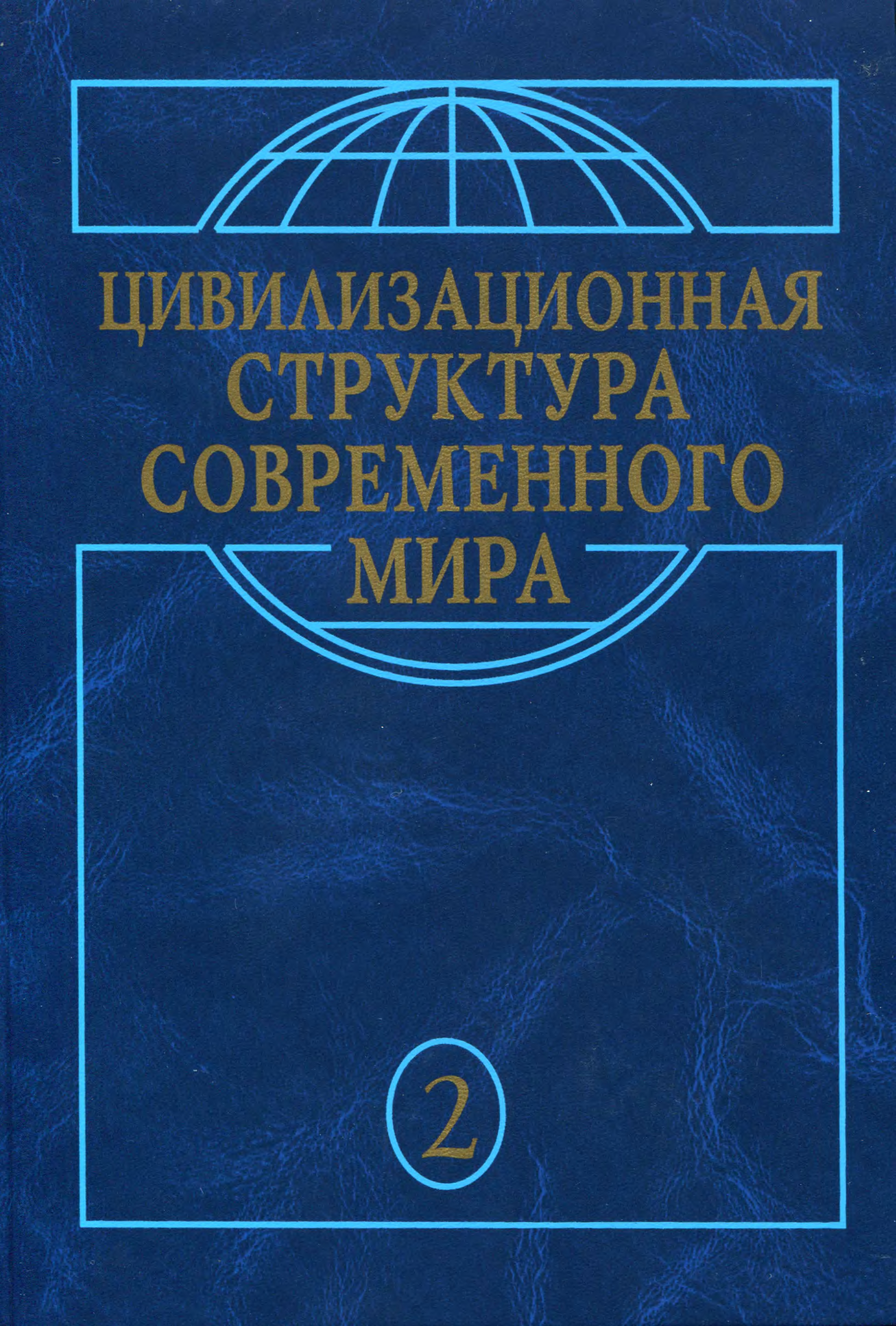Книга: Макрохристианский мир в эпоху глобализации
Менталитет, экономика и общество североамериканцев в первой половине XIX в. (Ю. В. Павленко)
Менталитет, экономика и общество североамериканцев в первой половине XIX в. (Ю. В. Павленко)
Обстоятельства возникновения англоамериканских колоний на Атлантическом побережье Северной Америки и религиозно–ценностный строй сознания их основателей, характер и нравы людей, переселявшихся из Европы, принятые в колониях, а затем на федеральном уровне законы, богатейшие, до того практически не освоенные местными жителями природные ресурсы страны, непрекращающиеся конфликты с индейскими племенами, пытавшимися противостоять экспансии колонистов и авантюристов (часто с криминальным прошлым) — это и многое другое определило особенности североамериканской ментальности, весьма, а кое в чем и принципиально отличной от европейской.
Обретенная независимость, отмечает А. М. Шлезингер, придала новый статус концепции Америки как «избранной нации» или «нации–искупительницы», которой Всевышний доверил задачу нести свой свет свободы погрязшему в грехах миру. От идеи спасения у себя в стране был один лишь короткий шаг к идее спасения мира, в том числе и насильственными методами, из чего логически вытекала выдвинутая А. Блэкберном идея «империализма правого дела», и восприятие Америки «в качестве предназначенных человечеству судьи, присяжных заседателей и исполнителя приговора в одном лице»476.
Утверждение в сознании большинства североамериканцев идеи о себе как о избранной нации, нации–спасительницы, ставшей со временем почти официальной верой, происходило в течение всей истории США. Оно имело прочные основания в задавшем вектор североамериканской ментальности кальвинизме, однако со временем приобретало более светский характер и поддерживалось как убежденностью в преимуществах республиканско–демократического строя, так и стремительным ростом экономики и общего благосостояния населения.
Выше уже шла речь о том, что одной из важнейших предпосылок североамериканской ментальности, особенно в Новой Англии, являются ее протестантские, прежде всего пуританские основания, а также связанный с ними изначальный демократизм общин первопоселенцев. Теперь следует специально остановиться на рассмотрении раннего, как его в 30?х гг. XIX в. зафиксировал А. де Токвиль, состояния североамериканской демократии и связанных с ней основополагающих черт индивидуального и общественного сознания граждан США первых десятилетий существования этого государства.
Основой демократии в США изначально выступали «безраздельная власть большинства»477 и равенство при высоко ценившейся индивидуальной предприимчивости и глубокой правовой культуре. «Мысль о том, что большинство имеет право управлять обществом в силу своей мудрости была принесена в Соединенные Штаты первыми жителями этой страны ... проникла в народные нравы и проявляется в мельчайших привычках»478.
Моральная сила большинства основывается на разделяемом всеми в США принципе, согласно которому интересы большинства должны преобладать над интересами небольших групп людей. Все группы населения готовы признать власть большинства, поскольку каждая из них надеется когда-либо воспользоваться им в своих интересах. Поэтому большинство в Соединенных Штатах оказывает решающее воздействие как на дела, так и на мысли людей. Когда оно выступает за что–либо, «никакая сила не в состоянии не только остановить его, но и замедлить его движение и дать ему возможность услышать тех, кого оно походя уничтожает»479.
К кому, риторически вопрошает французский интеллектуал, «может обратиться в Соединенных Штатах человек или группа людей, ставших жертвами несправедливости? К общественному мнению? Но оно отражает убеждения большинства. К законодательному корпусу? Но он представляет большинство и слепо ему повинуется. К исполнительной власти? Но она назначается большинством и является пассивным инструментом в его руках. К силам порядка? Но сила порядка — это не что иное, как вооруженное большинство. К суду присяжных? Но суд присяжных — это большинство, обладающее правом выносить приговоры. Даже судьи в некоторых штатах избираются большинством. Таким образом, как бы несправедливо или неразумно с вами ни поступили, у вас есть только одна возможность — подчиниться»480.
Попутно заметим, что при таком положении дел для установления некоей группой своей власти над американским обществом необходимо было научиться манипулировать общественным мнением, исподволь навязывать большинству определенные мысли и убеждения, представляющиеся ему как органически его собственные. Для этого нужны были крупные средства и соответствующие пиар–технологии. То и другое в органической взаимосвязи развилось в США до невиданных в мировом масштабе размеров в течение XX в. и определяет политическую жизнь страны и ее поведение на международной арене сегодня.
Но вернемся к состоянию североамериканского общества второй четверти XIX в., когда в этой стране крупных состояний (если не считать плантаторских владений) и отработанных технологий манипуляции общественным мнением еще практически не было. Негативные явления всесилия власти большинства, приводящего как к деспотизму законодателей, так и к произволу государственных служащих, были заметны уже тогда. В первую очередь они проявлялись в унификации, стандартизации мышления, невиданном в монархической Европе.
Монархи, констатирует А. де Токвиль, даже обладая неограниченной властью, «не могут помешать распространению в своих государствах и даже при своих дворах некоторых враждебных им идей. В Америке же дело обстоит иначе: до тех пор, пока большинство не имеет единого мнения по какому-либо вопросу, он обсуждается. Но как только оно высказывает окончательное суждение, все замолкают и создается впечатление, что все, и сторонники, и противники, разделяют его. Это легко объясняется: не существует монарха, обладающего достаточной властью для того, чтобы объединить все силы общества и побороть любое сопротивление, тогда как большинство, пользующееся правом создавать законы и приводить их в исполнение, легко может это сделать.
Кроме того, монарх обладает лишь материальной силой: он может не допустить каких-либо действий, но не имеет влияния на волю людей. Что касается большинства, то оно располагает как материальной, так и моральной силой, оно не только пресекает какие-либо действия, но, воздействуя на волю, может лишить желания действовать.
Я не знаю ни одной страны, где в целом свобода духа и свобода слова были бы так ограничены, как в Америке»481.
Всесилие большинства, резюмирует французский интеллектуал, у «которого часто вкусы и наклонности деспота»482, таит в себе самую большую опасность для североамериканских штатов. «Если когда-либо Америка потеряет свободу, то винить за это надо будет всевластие большинства»483, манипулируемого, как можно добавить сегодня, крупным капиталом при помощи электронных средств массовой информации и изощреннейших пиар–технологий. Иными словами, североамериканская демократия чревата тиранией, более того, в современной терминологии, тоталитаризмом.
Тем самым А. де Токвиль в своем анализе демократии, понимаемой как власть большинства, приходит к тем же выводам, что и Платон, показавший в VIII книге своего «Государства» как «пустоту души» «акрополя» «демократического человека», в которой нет «ни знаний, ни хороших навыков»484, так и то, как народ «попадает в услужение к деспотической власти и свою неумеренную свободу меняет на самое тяжелое и горькое рабство»485.
При этом французский мыслитель тонко подмечает различия между древним и средневековым деспотизмом, с одной стороны, и его изощренной, «демократической» формой, с другой. «В прошлом, — пишет он, — тирания прибегала к грубым орудиям, таким, как цепи и палачи; современная цивилизация усовершенствовала даже деспотизм». И далее: «абсолютные монархи опорочили деспотизм. Будем же осторожны: демократические республики могут его реабилитировать... У самых гордых народов старого мира публиковались книги, описывавшие пороки и смешные стороны современников. Лабрюйер писал свою книгу о вельможах, живя во дворце Людовика XIV, Мольер критиковал двор и разыгрывал свои пьесы перед придворными. Но сила, которая господствует в Соединенных Штатах, вовсе не желает, чтобы ее выставляли на смех. Ее оскорбляет самый мягкий упрек, пугает правда с малейшим оттенком колкости. Все должно восхваляться... Ни один писатель, как бы велика ни была его слава, не свободен от обязанности курить фимиам своим согражданам. Таким образом, большинство живет в самообожании... Инквизиции никогда не удавалось полностью прекратить в Испании распространение книг, противоречащих религии, исповедуемой большинством народа. Власти большинства в Соединенных Штатах удалось достичь большего: она лишила людей самой мысли о возможности их публикации»486.
Французский интеллектуал не перестает противопоставлять имеющие цивилизационную природу нравы США и Западной Европы. Он подчеркивает, что нет ни одной религиозной или политической доктрины, которой нельзя было бы свободно придерживаться в конституционных государствах Европы и которая оттуда не распространялась бы на другие государства. Объясняет он это тем, что ни в одной европейской стране нет такой политической силы, которая властвовала бы безраздельно. Поэтому человек, который хочет там говорить правду, всегда найдет опору и защиту в случае, если его независимая позиция приведет к опасным для него последствиям.
В Америке же горе тому человеку, который осмелится переступить границы неписаных правил. «Конечно, ему не грозит аутодафе, но он сталкивается с отвращением во всех его видах и с каждодневными преследованиями. Политическая карьера для него закрыта... Ему отказывают во всем, даже в славе... Наконец, под градом ударов он отступает, сдается и замыкается в молчании...»487.
Равенство и власть большинства взаимообуславливают друг друга. Поскольку «в Соединенных Штатах все равны между собой», пишет А. де Токвиль, у их граждан «нет естественного и постоянного различия в интересах»488. Равенство, формальное — политико–правовое, а для большинства, особенно в северных и западных штатах конца XVIII—1?й пол. XIX в., и материальное, органически сочеталось с приблизительно одинаковым уровнем образованности.
Мыслитель отмечает, что «в Америке люди имеют не только одинаковое состояние; они до известной степени равны и в своем интеллектуальном развитии» и продолжает: «Я не думаю, что где-либо в мире существуют государства, где пропорционально численности населения встречалось бы столь мало полных невежд и столь же мало ученых, как на Североамериканском континенте»489. «Идеи общего характера пугают их ум, привыкший к конкретным расчетам, а практике они отдают предпочтение в сравнении с теорией»490.
В Америке до середины XIX в. было очень мало знаменитых писателей, кроме разве что Дж. Ф. Купера, издавшего свой первый, получивший широкую известность роман «Пионер» в 1823 г. (девять лет спустя он уже был переведен на русский язык), и вовсе не было выдающихся философов, историков и поэтов (за исключением Э. А. По, органически связанного с литературой Англии и Франции, где он длительное время пребывал).
«Американцы, — констатирует в связи с этим А. де Токвиль, — смотрят на литературу в собственном смысле этого слова с некоторым пренебрежением... Американскому уму чужды общие идеи, он совсем не стремится к теоретическим открытиям»491, однако ему свойственны завидные практицизм и изобретательность. Объясняется это обстоятельство тем, что в Америке все трудятся и сами создают себе состояния, так что на духовное развитие у них попросту нет времени.
Американцы не хотят посвящать себя интеллектуальному труду и не имеют возможности им заниматься. В результате «в Соединенных Штатах установился некий средний уровень знаний, к которому все как-то приблизились: одни — поднимаясь до него, другие — опускаясь». Поэтому здесь можно встретить «огромную массу людей, у которых сложилось почти одинаковое понимание религии, истории, наук, политической экономии, законодательства и управления»492.
Вместе с тем в «Америке простые люди осознают высокое понятие политических прав, потому что они ими располагают. Они не задевают прав других, потому что не хотят, чтобы нарушали их права»493. Такое уважение к правам личности и гражданина органически сочетается с законопослушанием и лояльностью к представителям власти. Если в Европе простые люди не хотят признавать даже верховную власть, то в Америке безропотно подчиняются власти самого мелкого чиновника. Объясняется это тем, что на своих чиновников американцы смотрят как на равных себе людей, как и они, подчиненных власти закона.
От внимательного взгляда французского мыслителя не ускользают и институты, сдерживающие в США тиранию большинства. К ним он относит муниципалитеты и администрации округов, но, главным образом, уважаемую всем обществом законность, объективно выступающую противовесом демократии. В этой связи важно иметь в виду, что из Англии в североамериканские колонии как нечто само собой разумеющееся перешла юридическая система, опирающаяся на прецедентное право, когда законники заимствуют свои суждения в документах, составленных в соответствии с законами отцов, и принимают решения, ссылаясь на эти же документы. Это требует особой выучки и навыков, формирует особый тип британского и североамериканского правоведа, который уважает законы не столько потому, что они хороши, сколько потому, что они старые.
Именно в Англии, пишет французский интеллектуал, родился такой дух законности, безразличный к существу дела, в центре внимания ставящий только букву закона. Его формализм может противоречить здравому смыслу и доводить до абсурда, однако он уравновешивает чрезмерные страсти и блокирует порождаемые ими скороспелые и непродуманные решения. Пристрастие законников к формальности и преувеличенное уважение к старине идет вразрез со склонностью большинства к новому, а их привычка действовать неспешно входит в противоречие с его пылкостью. Поэтому в Соединенных Штатах «сословие законоведов служит самым мощным и, можно даже сказать, единственным противовесом демократии», а «законность своими достоинствами и даже своими недостатками способна нейтрализовать пороки, свойственные народному правлению»494.
Особо А. де Токвиль выделяет североамериканский патриотизм, в отличие от романтического французского рациональный, но от того не менее стойкий. Такого типа любовь к родине «возникает в результате просвещения, развития с помощью законов, растет по мере пользования правами и в конце концов сливается с личными интересами человека. Люди начинают видеть связь благосостояния страны и их собственного благосостояния, осознают, что закон позволяет им его создавать. У них пробуждается интерес к процветанию страны сначала как к чему–то, приносящему им пользу, а затем как к собственному творению»495.
Но такого рода патриотизм имеет и обратную, отчасти комичную сторону. Поскольку благодаря демократическим институтам американец так или иначе причастен ко всему, что происходит в стране, он горячо защищает в ней все, что может быть подвергнуто критике. Поэтому: «Нет ничего более неприятного в повседневной жизни, чем этот невыносимый американский патриотизм»496.
Ошибкой было бы считать, что А. де Токвиль склонен усматривать в демократической власти большинства прежде всего негативные стороны Напротив, он постоянно подчеркивает соответствие демократии духу и нравам американского общества, что делает ее действенной и жизнеспособной, отмечает, что именно демократия раскрепощает скрытые в человеке неограниченные силы и возможности, обеспечивающие благополучие отдельных людей и общества в целом. «В демократической республике, — пишет он, — большие дела вершатся не государственной администрацией, а без нее и помимо нее. Демократия — это не самая искусная форма правления, но только она подчас может вызвать в обществе бурное движение, придать ему энергию и исполинские силы, неизвестные при других формах правления. И эти движения, энергия и силы при мало–мальски благоприятных обстоятельствах способны творить чудеса. Это и есть истинные преимущества демократии»497.
Более того, при наблюдавшейся в Европе дискредитации всех базовых принципов «старого порядка», авторитета церкви, монархии и аристократии и прозорливо предвидимой французским интеллектуалом альтернативы ее дальнейшего политического развития, не допускающего иного выбора, кроме как между демократией и тиранией (что на практике в XX в. обернулось формами тоталитарных режимов: коммунистического В. Ленина — И. Сталина в СССР, фашистского Б. Муссолини в Италии, национал–социалистического А. Гитлера в Германии или деспотически–авторитарных — Б. Франко в Испании, А. Салазара в Португалии, подобного им А. Пиночета в Чили), он отдает решительное предпочтение демократии.
«Если нам не удастся, — пишет он, — постепенно ввести и укрепить демократические институты и если мы откажемся от мысли о необходимости привить всем гражданам идеи и чувства, которые сначала подготовят их к свободе, а затем позволят ею пользоваться, то никто не будет свободен — ни буржуазия, ни аристократия, ни богатые, ни бедные. Все в равной мере попадут под гнет тирании. И я предвижу, что если со временем мы не сумеем установить мирную власть большинства, то все мы рано или поздно окажемся под неограниченной властью одного человека»498.
«Если люди, — констатирует А. де Токвиль, — действительно достигли такого порога, за которым либо все они станут свободными, либо превратятся в рабов, либо приобретут равные права, либо будут лишены всех прав», постепенное развитие демократических институтов следует рассматривать «не как наилучшее, а как единственное имеющееся у нас средство для сохранения свободы». И далее: «Слов нет: желания демократии изменчивы, ее представители грубы, законы несовершенны. Однако, если на самом деле вскоре не будет существовать никакой середины между господством демократии и игом одного человека, разве не должны мы всеми силами стремиться к первой, вместо того, чтобы добровольно подчиняться второму? И если в конце концов мы прийдем к полному равенству, разве не лучше быть уравненными свободой, чем деспотизмом?»499.
Устойчивость Североамериканского Союза при подчеркиваемой слабости федерального правительства самого по себе А. де Токвиль усматривает не только во взаимодополняемости экономик Севера, Юга и Запада, причем обладающий флотом Север выступает торговым посредником между США в целом и остальным миром, но и в общности ценностей, идей и мотиваций граждан всех штатов, т. е., как сказали бы мы сегодня, в их цивилизационном единстве.
«Общество, — справедливо подчеркивает он, — возникает, когда люди имеют одинаковые взгляды и мнения о многих вещах, когда многие события вызывают у них одинаковые впечатления и наводят на сходные мысли»500. Именно это наблюдается в США. При том, что у них существует несколько вероисповеданий, американцы едины в своем отношении к религии. У них имеются политические разногласия, но царит полное единство относительно основных принципов управления обществом. У них одинаковые взгляды на демократию, свободу и равенство, прессу и право создавать политические объединения, на суд присяжных и ответственность власти перед народом. То же согласие наблюдается и в жизненных, в частности, моральных убеждениях, которые лежат в основе их поведения и повседневной жизни.
У англоамериканцев, к тому же, есть особое чувство гордости, отличающее их от всех прочих народов. «В течение пятидесяти лет, — констатирует французский интеллектуал, и сегодня, в значительной степени, можно сказать то же самое, — жителям Соединенных Штатов без конца твердят, что они являются единственным религиозным, просвещенным и свободным народом. Тот факт, что до настоящего времени демократические учреждения с успехом функционируют только у них... порождает в них огромное самомнение. Им даже близка мысль о том, что они являются совершенно особыми людьми»501. А в качестве основных черт характера англоамериканцев он называет «стремление к благосостоянию и предприимчивость»502.
Однако было бы ошибочно, как это часто делают, полагать, что бурный экономический рост США в период от завоевания независимости до Гражданской войны определялся сугубо частным предпринимательством. Огромную роль в экономической жизни Северной Америки того времени играло государство. Уже в конце XVIII в. здесь оформились два подхода к вопросу о роли государства в экономической жизни: Т. Джефферсона, отстаивавшего интересы плантаторов и фермеров и полагавшего, что государственное вмешательство должно быть минимальным, и А. Гамильтона, выражавшего интересы поднимавшейся торгово–промышленной буржуазии, нуждавшейся в протекционизме и всемерной поддержке со стороны правительства.
В целом же, отмечает А. М. Шлезингер, отцы–основатели в экономических вопросах стояли на позициях доминировавшей в их время теории меркантилизма, предполагавшей активное участие государства в экономической жизни, и «отнюдь не были рьяными приверженцами нерегулируемого рынка, точно так же, как и неограниченной свободы предпринимательства.
От них мы, скорее, унаследовали сочетание частной инициативы и государственного регулирования, именуемое в наши дни смешанной экономикой»503.
Государственное регулирование экономики в США с самого начала ставило себе целью содействовать экономическому развитию страны. Этой цели в начале XIX в было подчинено и введение протекционистских тарифов, и финансирование строительства имеющих общенациональное значение портов, каналов и дорог, и разработка с последующим внедрением в жизнь долгосрочных комплексных планов экономического развития. Правомерность государственного вмешательства в экономику никем под сомнение не ставилась, и деловой мир с одобрением воспринимал правительственную поддержку504.
Это способствовало тому, что в 30–40?е гг. XIX в. Соединенные Штаты вступили в период экономического бума, источником которого все более становились внутренние ресурсы предпринимателей. «Частный сектор в достаточной степени аккумулировал капитал, а его потребность в общественных средствах резко уменьшилась. Более того, в этот период основная задача экономики заключалась уже не в создании инфраструктуры, а в стимулировании производства и его рационализации. Здесь частное предпринимательство ни в чьей помощи не нуждалось»505. Более того, оно стремилось избавиться от жестких рамок государственного регулирования.
К середине XIX в. образование свободного рынка капиталов, создание все новых частных корпораций, растущее недоверие к государственной регуляции экономической жизни радикально изменило условия деятельности предпринимателей, ранее добивавшихся государственного вмешательства в их дела. Участие государства в экономической жизни стало заметно сокращаться. Однако с подъемом промышленности и возникновением частных корпораций правительство стало обретать новые функции, связанные с обеспечением общественного благосостояния506. Эта тенденция с особой силой проявилась уже в XX в., особенно в политике «Нового курса» Ф. Рузвельта.
Общую характеристику устройства и нравов США конца XVIII — середины XIX в. следует конкретизировать, анализируя не потерявшие своего значения до нашего времени особенности на Севере, Юге и колонизируемом Западе, не забывая о положении невольников–негров и вытесняемых все далее на запад индейцев.
Еще до завоевания независимости англо–американские колонии Северной Америки разделялись на два региона, резко отличавшихся друг от друга. Так, на севере и северо–востоке развивались промышленность и фермерское хозяйство. На юге земли оставались в руках рабовладельцев–плантаторов. Плантационный Юг в сравнении с индустриальным Севером больше напоминал общество Латинской Америки с присущей последнему латифундистской собственностью, где во многих случаях (Куба, Бразилия) также применялся труд рабов.
Рабовладение наложило свой отпечаток на жизнь обеих рас. «Для немногочисленной элиты — белых плантаторов–южан — это была возможность роскошной, утонченной жизни, мир высоких белых особняков в греческом классическом стиле. ... Однако, с другой стороны, это была жизнь в непрекрашающемся страхе перед восстанием рабов и в изощренных попытках оправдать перед собственой совестью очевиднейшее зло... содержания в рабстве ни в чем не повинных людей»507.
Крупные рабовладельцы–плантаторы, как правило, получавшие свои состояния в наследство, ощущали себя аристократами. Впрочем, своими вкусами они не очень сильно отличались от прочего свободного населения своих штатов. В то же время на Севере промышленники, банкиры и фермеры происходили из разных социальных слоев населения и даже в первой половине XIX в., не говоря уже о более ранних временах, своему состоянию были обязаны прежде всего самим себе, своему труду, упорству и изобретательности.
Как уже отмечалось ранее, основывавшиеся на северо–востоке современных Соединенных Штатов преимущественно пуританами колонии Новой Англии с момента их возникновения руководствовались строгими религиозными нормами, принципами демократии и прецедентным правом. Со временем в них развилось общее административное устройство, предполагающее на первом, базовом уровне общину, объединяющую несколько общин вокруг и, наконец, отдельный штат. При этом, если в рамках общин действует непосредственная демократия, то на уровне штатов, как и на федеральном уровне, — представительная.
Автаркия североамериканской общины, не находящейся ни под чьей опекой и самостоятельно заботящейся о своих интересах, логически вытекает из самого принципа народовластия, но в Новой Англии условия для ее развития изначально были более благоприятными, чем южнее р. Гудзон. Округа, промежуточное звено между общинами и правительством штата, были созданы исключительно в административных и судебных интересах и их власти располагали весьма ограниченными полномочиями. Штат с его двухпалатной (палата представителей и сенат) законодательной, возглавляемой губернатором исполнительной и представляемой судом штата судебной властями, по крайней мере до Гражданской войны 1861–1865 гг., являлся вполне самодостаточной политической единицей, входящей в Североамериканский союз и подчиненной даже не столько его президенту, мало вмешивавшемуся во внутреннюю жизнь штатов, сколько конституции США, предоставлявшей их правительствам широчайшие полномочия. Подобным образом и губернатор штата, являющийся выборным населением должностным лицом, имеет законодательно строго определенные полномочия и, назначая во многих штатах мировых судей, «не принимает никакого участия в управлении общинами или округами»508.
А. де Токвиль подчеркивал относительно высокую образованность жителей Новой Англии, где «каждый гражданин овладевает зачатками человеческих знаний, кроме того, его обучают доктрине и доводам его религии, знакомят с историей его родины и с основными положениями конституции, по которой она живет»509. Однако, продолжает он, это не относится к США в целом, и чем дальше на Запад или на Юг, тем ниже уровень образования. С этим связана и степень участия людей в общественных делах. Политическая активность граждан штатов Новой Англии чрезвычайно высока, но по мере движения на плантаторский Юг она все более затухает.
При господстве ориентированного на производство главным образом тех культур (хлопок, табак, сахарный тростник и пр.), продукция которых в сыром или переработанном виде экспортировалась в северные штаты и Европу, основой экономики Юга было рабовладельческое плантационное земледелие. При достаточно мягком климате, обеспечивающем дешевизну содержания невольников, и возможности занимать последних (в том числе женщин и детей, использования труда которых при зерновой направленности земледелия ограничены) производительным трудом в течение практически всего года оно южнее р. Гудзон было достаточно рентабельным. Севернее же названного рубежа, при наличии увеличивавшего себестоимость рабского труда более холодного климата, в сельском хозяйстве преобладали зерновые культуры (пшеница и кукуруза), требовавшие сезонного труда. Это определяло наличие здесь фермерского, основанного на свободном труде, хозяйства, при том, что принятые в северных штатах уже в конце XVIII в. законы определяли здесь постепенную отмену рабства.
При правовом равноправии всех свободных граждан Юга крупные землевладельцы образовывали здесь высшее сословие, которому были свойственны некоторые особые вкусы и пристрастия и которое находилось в центре политической жизни общества. Однако, как отмечает А. де Токвиль, это была довольно своеобразная аристократия, мало отличавшаяся своими нравами от основной массы населения, не возбуждавшая у последней ни любви, ни ненависти»510. В то же время при наличии сильной и влиятельной рабовладельческой аристократии общины в южных штатах были заметно слабее, чем на Севере. Круг обсуждавшихся на их собраниях вопросов был уже, а их должностные лица располагали меньшими правами и обязанностями.
Все основные отличия между северными и южными штатами, в частности, то обстоятельство, что первые в отличие от вторых имели промышленность, железные дороги, каналы и корабли, А. де Токвиль объясняет существованием во вторых рабства511. Рабство развращает даже не имеющих невольников белых, полагающих, что нищета менее позорна, чем труд. «Чем дальше на Юг, тем сильнее ощущается предрассудок, согласно которому уважения достойна лишь праздность. В штатах, соседствующих с тропиками, не работает ни один белый человек»512.
Французский исследователь не только отмечает антигуманность рабовладения, лишающего невольников человеческих прав и калечащего их нравы, в то же время развращающих и склоняющих к праздности рабовладельцев, но подчеркивает низкую продуктивность рабского труда. Сравнивая расположенные по разным берегам одной реки штаты, рабовладельческий Кентукки и не знающий рабства Огайо, он акцентирует внимание на косности первого и динамическом развитии второго, объясняя последнее порождаемой свободой предприимчивостью его жителей.
А. де Токвиль отмечает, что, при всей общности происхождения большинства жителей США, со временем из–за климата и в еще большей степени из–за наличия рабства, в характере южан появились черты, сильно отличающие их от граждан северных штатов. Рабство не только тормозило экономический рост, но накладывало неизгладимый отпечаток на нравы.
Пропасть, разделяющая белое и чернокожее население Северной Америки, представляется французскому автору в принципе непреодолимой даже при неизбежной в перспективе отмене рабства, поскольку, по его наблюдениям, расовые предрассудки сильнее проявляются в тех местах, где рабство отменено, чем в тех, где оно еще существует. Но наибольшая нетерпимость проявляется там, где рабство никогда не существовало. Здесь закон не запрещает межрасовые браки, но они неосуществимы ввиду того, что считаются для белых позорными. Чернокожие имеют избирательные права, но негр может прийти на избирательный участок лишь с риском для жизни. Даже церкви и кладбища у белых и черных разные. Поэтому, с грустью резюмирует А. де Токвиль, «надеяться на то, что европейцы когда-либо смешаются с неграми, — значит предаваться несбыточным мечтам. Ничто не позволяет мне надеяться на это, реальная действительность свидетельствует о противоположном»513.
Поскольку материальную сторону жизни на Юге обеспечивал труд рабов, заботы о повседневной жизни мало занимали ум южан, направленный на более возвышенные, но менее определенные вещи. Поэтому они непосредственны, остроумны, открыты, великодушны, интеллектуальны и блестящи; обладают вкусами, предрассудками, слабостями и благородством, присущими аристократам; любят величие, роскошь, славу, шум, удовольствия и особенно праздность.
«На Юге даже самые бедные семьи имеют рабов. С самого раннего детства южанин чувствует себя кем-то вроде домашнего диктатора. Делая первые шаги в жизни, он узнает, что рожден для того, чтобы распоряжаться, и приобретает привычку господствовать, не встречая сопротивления. Из–за такого воспитания южане часто бывают высокомерны, нетерпеливы, раздражительны, вспыльчивы, безудержны в желаниях. Они страстно желают борьбы, но быстро отчаиваются, если победа требует длительных усилий»514.
В отличие от них северяне, не окруженные с детства рабами и имеющие преимущественно одинаковый достаток, с юных лет вынужденные заботиться о себе сами, проникаются мыслью о своей самостоятельности и рано учатся оценивать естественные пределы своих возможностей. Они терпеливы, рассудительны, активны, образованны, искусны, терпимы, неторопливы в действиях и упорны в достижении поставленных целей; обладают достоинствами и недостатками, свойственными среднему классу; поглощены повседневными заботами, которые так презирают южане. Поскольку все усилия их ума направлены на единственную цель — достижение благосостояния, они неизменно его достигают.
Однако из–за сосредоточенности на обыденных мелочах у жителей северных штатов слабее воображение, они не богаты отвлеченными мыслями, но мыслят практично, ясно и точно; прекрасно умеют использовать природу и людей для производства материальных благ и виртуозно владеют искусством создания в обществе условий, способствующих процветанию каждого его члена, умеют использовать эгоизм индивида для всеобщего процветания. Северяне «обладают не только опытом, но и знаниями, однако наука для них не удовольствие, они видят в ней средство достижения своей цели и неутомимо овладевают теми ее областями, которые имеют практическое применение»515.
Такого рода человеческий материал составлял основу колонистов–первопроходцев, устремлявшихся на «дикий Запад», в бескрайние леса и прерии Северной Америки, вплоть до ее Тихоокеанского побережья. Туда шли люди, не терпящие никакого гнета, жадно стремящиеся к обогащению и нередко изгнанные из своих родных штатов, не знакомые друг с другом и не склонные повиноваться законам. Ежегодно, констатировал французский исследователь, количество устремляющихся на Запад все возрастало. Люди двигались по всему фронту от озера Верхнее до побережья Мексиканского залива примерно со скоростью 7 лье (31,5 км) в год. Время от времени они встречали на своем пути какое-то препятствие (водный рубеж, индейское племя) и останавливались, скапливаясь на определенной территории, чтобы затем продолжить свое движение на Запад с новой силой.
При этом встреча белых колонистов и аборигенов не приводила к культурному синтезу. Как в связи с этим пишет М. Лернер, трудно представить себе более своенравные и менее склонные к взаимным контактам культуры, чем европейцев и индейцев. С одной стороны мы видим завоевателей, цивилизацию, в которой уже видны ростки будущего индустриального, рационалистического, энергичного и мобильного общества. Ему противостоит символическая, иррациональная, пассивная, построенная на ритуалах культура индейцев. Одна, исполненная движения, должна была либо победить, либо стать побежденной. Другая не имела шансов на первое и не могла вынести второго.
И далее американский исследователь пишет: «Сложим вместе пуританскую веру в праведность своих целей и присущий всем без исключения новым американцам азарт в погоне за наживой, учтем земельный голод первопоселенцев и алчность спекулянтов, добавим неукротимое «стремление империи на Запад» и романтику «великой американской цели» — и, представив все это в совокупности, сразу поймем, что смертный приговор индейской культуре был подписан с самого начала»516.
Рассматривая начавшуюся с конца XVIII в. колонизацию Запада, прежде всего плодороднейших земель в бассейнах Миссисипи и Миссури и в районах, примыкающих с юга к Великим озерам, А. де Токвиль пишет, что она стала как бы новым открытием Америки. Из ранее заселенных лишь индейцами территорий стали доходить вести о появлении там каких-то новых общин, начинавших объединяться в округа и формировать штаты, вскоре признаваемые в качестве полноправных членов федерации другими штатами и центральным правительством. Причем на западных территориях, заселявшихся преимущественно выходцами из северных штатов, развитие демократии достигло своего наивысшего уровня.
Здесь, при редком и гетерогенном по своему происхождению населении (поначалу люди были едва знакомы друг с другом и никто не знал прошлого своего ближайшего соседа), население избежало не только влияния «знати или крупных богачей, но и так называемой аристократии от природы, то есть людей, своим происхождением связанных с просвещением и добропорядочностью»517.
Равенство, таким образом, было полным, и власти большинства эффективно не могла противостоять даже уважаемая во всей Северной Америке правовая система. В новых штатах, отмечал А. де Токвиль, население, как правило, «само вершит суд, и убийства там совершаются беспрерывно. Причиной тому очень жестокие нравы местного населения, а также почти полное отсутствие просвещения в этих пустынных местах. Оттого и не ощущают они необходимости в силе закона: судебным процессам они предпочитают дуэли»518.
В то же время, сохраняя объективность и беспристрастность, исследователь констатирует достаточно высокий уровень образования первопроходцев, чем те выгодно отличаются от крестьян Европы. Их окружает дикая и нетронутая природа, но они «носят городскую одежду, говорят городским языком, знакомы с прошлым, интересуются будущим.., они углубляются в лесные дебри Нового света, неся с собой Библию, топор и газеты»519.
При этом цитируемый автор развеивает бытующее в умах многих его современников в Европе заблуждение относительно того, что осваивают эти территории прибывающие переселенцы из Старого света. Напротив, эмигранты, как правило, не имея по прибытию в США ни средств, ни связей, оседают в городах северо–восточных штатов, где промышленность нуждается в рабочих руках. Здесь они становятся живущими в достатке рабочими, тогда как их сыновья устремляются на поиски счастья на запад и становятся там богатыми собственниками. Первые накапливают капитал, а вторые пускают его в оборот, «но в нищете не живет ни тот, кто эмигрировал в Америку, ни тот, кто там родился»520.
В отличие от одухотворенных религиозной верой и убежденностью в свою высокую миссию первопоселенцев–пуритан, осваивающие бескрайние западные просторы Северной Америки колонисты, в своем абсолютном большинстве, были движимы исключительно жаждой обогащения. «Трудно описать ту алчность, с которой американцы бросаются на огромную добычу, дарованную им судьбой. Преследуя ее, они бесстрашно идут на стрелы индейцев, переносят болезни, подстерегающие их в пустыне, не боятся лесного безмолвия, не приходят в смятение при встрече со свирепыми животными. Страсть, которая гонит их вперед, сильнее любви к жизни... Их стремление к благосостоянию превратилось в горячую и беспокойную страсть, которая растет по мере ее удовлетворения»521.
А. де Токвиль подчеркивает, что развитие и процветание США неразрывно связано с постепенным вытеснением или беспощадным изгнанием с родных мест коренного индейского населения и обстоятельно описывает отработанные и с виду «законные» механизмы этих процессов; констатирует, что в этом деле «к алчности колонистов добавляется еще и тирания правительства»522.
Сравнивая положение коренного населения в Латинской и Северной Америках, французский интеллектуал не забывает о зверствах испанцев во времена конкисты, однако констатирует, что «в конце концов остатки индейского населения, избежавшие истребления, смешиваются с победителями, принимают их религию, усваивают их нравы». В противоположность этому англоамериканцы всегда стремятся к «соблюдению форм и законности», прямо не вмешиваются во внутренние дела аборигенов и если случается так, что индейцы в силу экспансии колонистов не могут жить больше на своей территории, федеральные власти «протягивают им братскую руку помощи и самолично спроваживают их умирать подальше от страны их предков». В результате, если испаноамериканцы «не сумели ни истребить индейцев, ни помешать им стать равноправными гражданами», то американцам в Соединенных Штатах «удалось достичь и того и другого с удивительной легкостью, спокойно и человеколюбивым путем... Невозможно представить себе более полного соблюдения всех требований гуманности при истреблении людей»523.
Таким образом, предпринимательская свобода и политическая свобода белых содержит непреодолимые (вплоть до сегодняшнего дня) расовые барьеры и предрассудки, рабство чернокожих на Юге и методическое уничтожение индейцев. При всем этом А. де Токвиль предвидит великое будущее Североамериканских Штатов, точно так же как и России. Ввиду пророческого характера его прозрений относительно судеб этих огромных государств, вполне оправдавшихся в XX в., стоит привести цитату полностью:
«В настоящее время в мире существует два великих народа, которые, несмотря на все свои различия, движутся, как представляется, к единой цели. Это русские и англоамериканцы.
Оба этих народа появились на сцене неожиданно. Долгое время их никто не замечал, а затем они сразу вышли на первое место среди народов, и мир почти одновременно узнал об их существовании, об их силе.
Все остальные народы, по-видимому, уже достигли пределов своего количественного роста, им остается лишь сохранять имеющееся; эти же постоянно растут. Развитие остальных народов уже остановилось или требует бесчисленных усилий, они же легко и быстро идут вперед. Американцы одерживают победы с помощью плуга земледельца, а русские — солдатским штыком.
В Америке для достижения целей полагаются на личный интерес и дают полный простор силе и разуму человека.
Что касается России, то можно сказать, что там вся сила общества сосредоточена в руках одного человека.
В Америке в основе деятельности лежит свобода, в России — рабство.
У них разные истоки и разные пути, но очень возможно, что Провидение втайне уготовило каждой из них стать хозяйкой половины мира»524.
Как здесь не вспомнить, что, предрекая восход «русско–сибирского» культурного типа, О. Шпенглер отнесет перелом в Европе от творческого культурного к механическому цивилизационному состоянию к окончанию Наполеоновских войн, а ранее Н. Я. Данилевский, возвещая об исчерпанности творческих возможностей Европы, будет доказывать, что в России они только начинают раскрываться? Но еще более интересен тот факт, что, практически одновременно с молодым А. де Токвилем, стареющий Г. В. Гегель, относивший в своих лекциях по философии истории славян к «неисторическим народам», в частных письмах также предрекал выдающуюся роль в будущем именно России и США.
- Североамериканская ментальность и ее истоки (Н. А. Татаренко)
- Североамериканские колонии: социально–религиозные основания их республиканско–демократических учреждений и победа в борьбе за независимость (О. В. Головина, Ю. В. Павленко)
- Менталитет, экономика и общество североамериканцев в первой половине XIX в. (Ю. В. Павленко)
- Территориальное расширение Соединенных Штатов в XIX в. и их модернизация после Гражданской войны 1861–1865 гг. (О. В. Головина, Ю. В. Павленко)
- США на пути к мировой гегемонии: XX в. (О. В. Головина, Ю. В. Павленко)
- Внешнеполитические приоритеты Соединенных Штатов и их положение в глобализированном мире (О. В. Головина, Ю. В. Павленко)
- Фрагментированностъ как основа единства «молодой американской нации» (Н. А. Татаренко)
- Социально–экономические основы этнофрагментированного общества США (Н. А. Татаренко)
- ЭКОНОМИКА ЖИЗНИ
- Сообщество превращается в организм
- В начале было сообщество?
- Вместо выделительной системы — микробное сообщество
- Неклеточный компартментализированный LUCA(S): сообщество разнородных репликаторов и лаборатория ранней эволюции
- Соотношение естествознания и обществознания.
- Экономика:несостоявшийся разумный диалог
- Государство и новое общество
- Другое общество
- Выбор и общество
- Экономика компьютера
- Первый враг патриархальщины – гражданское общество