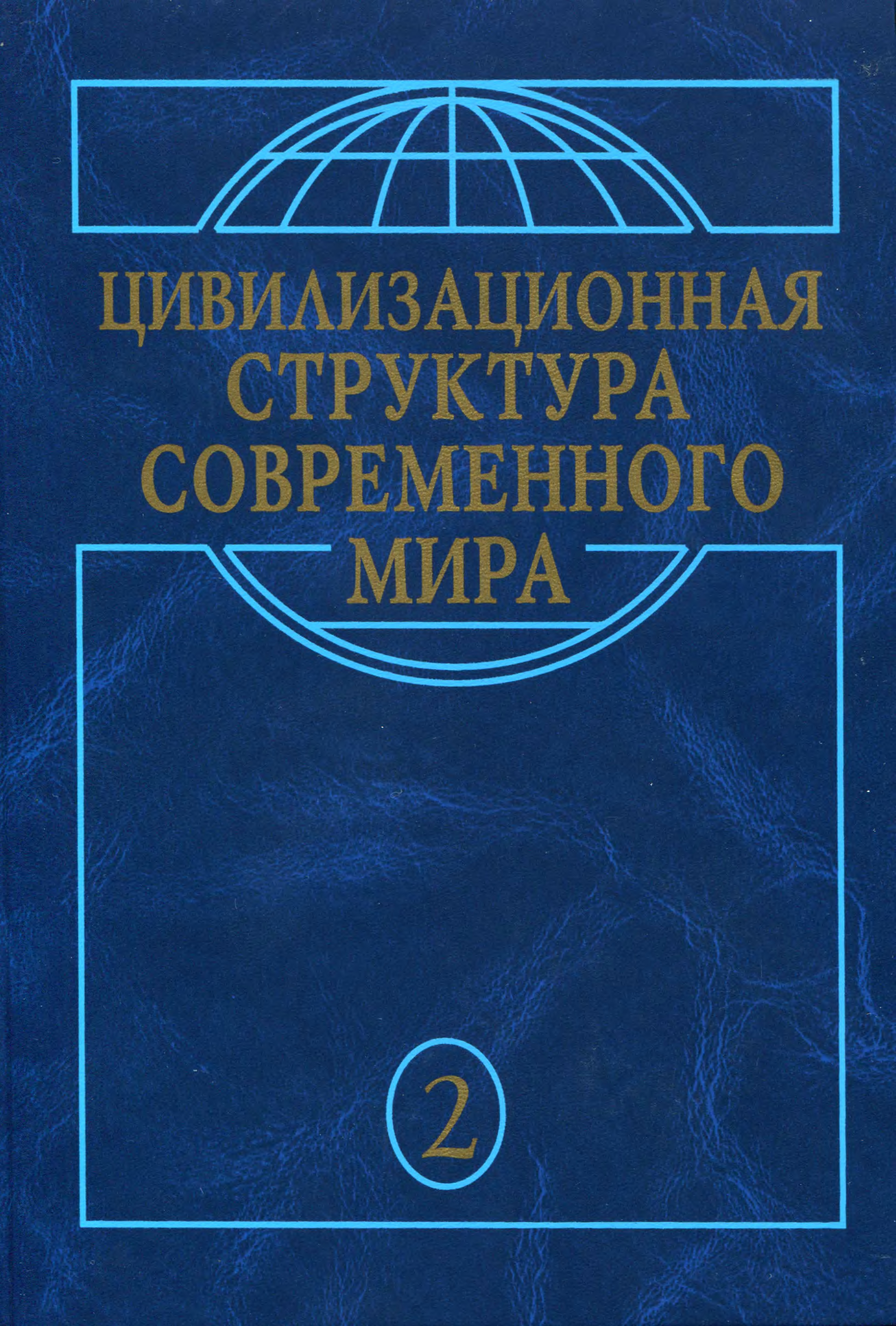Книга: Макрохристианский мир в эпоху глобализации
Идейно–ценностные основания Латиноамериканской цивилизации (В. П. Кириченко)
| <<< Назад Латиноамериканский духовно–культурный симбиоз (В. П. Кириченко) |
Вперед >>> Латиноамериканская цивилизация XIX–XX вв. (В. Г. Космина) |
Идейно–ценностные основания Латиноамериканской цивилизации (В. П. Кириченко)
Хотя в XVI в. тенденция к синтезу отнюдь не являлась еще преобладающей, уже тогда появились отдельные выдающиеся личности, духовный мир которых являл собой зрелые образцы нового культурного качества, возникшего в ходе взаимодействия индейской и испанской традиций. Таковы Инка Гарсиласо де ла Вега и Фернандо де Альба Иштлильшочитль. Синтез начинается и на уровне народной культуры. Ключевое событие здесь — возникновение и развитие уже упоминавшегося культа Девы Гваделупской в Мексике, ставшей со временем своего рода символом нового человеческого мира, возникшего в Латинской Америке.
Как известно, этот культ стремительно распространился в американских владениях испанской короны, а сама Гваделупская Богоматерь приобрела поистине всенародную любовь. Не случайно именно ее лик несли на своих знаменах латиноамериканские патриоты во времена Войны за независимость. В 1910 г. Святая Дева Гваделупская была официально объявлена покровительницей всей Латинской Америки. И сегодня она пользуется такой же всеобщей любовью и популярностью. Ее почитают не только в Испанской Америке, но и в португалоязычной Бразилии.
Здесь можно было бы привести еще немало ярких примеров культурного синтеза. Так, от Гарсиласо и Иштлильшочитля протягивается, по существу, прямая нить преемственности к латиноамериканским писателям и мыслителям нашего времени. Современная латиноамериканская литература — главное духовное выражение процесса синтеза. Творчество Г. Гарсиа Маркеса, X. Л. Борхеса, А. Карпентьера, М. А. Астуриаса, К. Фуэнтеса, М. Варгаса Льосы, О. Паса, А. Роа Бастоса, С. Алегриа, X. М. Аргедаса и многих, многих других совершенно непредставимо вне процесса органического соединения элементов различных культур, среди которых центральное место занимают иберийское и автохтонное начала. Без сплава традиций творцов доколумбовых культур и достижений современных европейских художников была бы невозможна латиноамериканская живопись XX в. Наконец, по свидетельству А. Карпентьера, сферой, особо чувствительной к процессам синтеза, явилась музыка, где наряду с европейскими и индейскими влияниями особенно ярко проявил себя, как известно, негритянский элемент.
Этот список при желании можно было бы продолжать еще очень долго. Казалось бы, приведенные примеры, и прежде всего, сам факт существования Латинской Америки представляют собой достаточно убедительные аргументы для того, чтобы раз и навсегда, перед лицом очевидной реальности, покончить со спорами о том, имел ли место в регионе синтез культур. И тем не менее, споры продолжаются до сих пор и в самой Латинской Америке, и в научном сообществе латиноамериканистов. В связи с 500-летием открытия Америки они приобрели особую остроту и размах. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что проблема синтеза в Латинской Америке гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. На страницах этой книги представлено немало материалов, подтверждающих эту мысль. В дальнейшем мы еще вернемся к специфике латиноамериканского синтеза. Сейчас же отметим лишь следующее.
Несмотря на трудности, обнаружившиеся на пути формирования нового культурного качества, латиноамериканский синтез — это, по нашему глубокому убеждению, историческая реальность. В чем причина того, что центростремительные силы культурообразования здесь, тем не менее, возобладали над центробежными силами взаимного отталкивания разнородных человеческих реальностей? Для того чтобы получить ответ на этот вопрос, нужно, прежде всего, проанализировать особенности той культуры, которая определила основу латиноамериканского синтеза.
В подавляющем большинстве случаев общее направление и характер процесса культурного синтеза определило иберийское начало. Разумеется, в немалой степени этому способствовало то обстоятельство, что испанский (в Бразилии, соответственно, португальский) конкистадор утверждал свою культуру, свою систему ценностей как победитель. Однако не это сыграло главную роль. Обобщение опыта взаимодействия различных цивилизаций и культур в разных районах мира подводит к выводу о том, что основу синтеза, по общему правилу, определяет тот из участников контакта, кто оказывается более открыт новому, более способен к творческому усвоению чужого опыта. Наличие же подобного качества прямо зависит от того, насколько сильно выражено в той или иной общности универсальное общечеловеческое начало. Возможность его утверждения в качестве общезначимой ценности, в свою очередь, обусловлено тем, в какой степени данной конкретной культуре или цивилизации удалось преодолеть тормозящее воздействие глубинного центробежного фактора истории — того самого, уходящего корнями в первобытность социально–психологического комплекса «они и мы».
Господство этого комплекса — характерная отличительная черта мифологического типа построения системы отношений с миром, проявляющаяся как на уровне мышления, так и на уровне поведения. Данный тип мироотношения, как уже отмечалось выше, — определяющая характеристика доколумбовых обществ. Что же касается Испании и Португалии, то это страны, глубоко затронутые «осевым» порывом и выработавшие, несмотря на наличие в их собственных социально–культурных организмах мощных противоборствующих тенденций, четкие универсалистские ориентации.
Если, как уже отмечалось, первичной предпосылкой развертывания процесса культурного синтеза был, вопреки воздействию комплекса «они и мы», универсализм мифоструктур, то главной основой данного процесса стал качественно иной вид универсальности — католический универсализм в его специфической иберийской версии. Проповедь католической церкви была обращена ко всем людям, независимо от происхождения, цвета кожи и культурно–этнической принадлежности. В данном случае проявила себя та общехристианская тенденция, которая с лапидарной ясностью выражена в словах апостола Павла из послания к Колоссянам: «...нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» (Кол. III, 11).
Как справедливо отмечал, в частности, Л. Сеа, особенность иберийского «колонизаторского проекта» заключалась в том, что он предполагал включение в христианскую экумену покоренных народов. По самой своей сути католический порядок был открыт для всех. Это касается и того колониального строя, который был создан испанцами и португальцами в Америке. Думается, что в принципе можно согласиться с той оценкой данного строя, которую дал О. Пас. По его словам, в Испанской Америке было все, что угодно, — разделенные огромной социальной дистанцией верхи и низы общества, белая колонизаторская элита и масса жестоко угнетаемых индейских общинников, господа и рабы; но не было париев, людей, стоящих вне существующего порядка: в рамках его структуры нашлось место (разумеется, при условии крещения) всем, хотя и на разных уровнях социальной пирамиды611.
Конечно, сохранение определенных элементов индейского мира в Испанской Америке объяснялось тем, что они могли быть утилизированы в системе колониального господства: испанская корона и латифундисты нуждались в рабочей силе для шахт и плантаций. Известны многочисленные примеры жестокой эксплуатации и массовой гибели индейцев от изнурительного труда. В этом смысле нельзя не вспомнить о том, что Латинская Америка с самого начала своего исторического существования познала изнанку европейско–христианского универсализма.
Однако следует подчеркнуть, что участь индейцев могла быть гораздо более печальной, если бы не католические монахи. Широко известна мужественная деятельность многих из них по защите коренного населения от безудержного произвола и жестокости конкистадоров и энкомендеро. Несомненно, на представителях католической церкви лежит прямая ответственность за разрушение множества памятников доколумбовых культур. Но вместе с тем христианские монахи и священники отнюдь не только уничтожали автохтонное наследие, но и были первыми, кто начал изучать это наследие с целью донесения до своей паствы основ собственной веры. При этом они зачастую способствовали сохранению важных элементов индейских культур. Достаточно вспомнить в этой связи деятельность Лас Касаса и его сторонников, Б. де Саагуна, историю спасения рукописи эпоса индейского народа киче Гватемалы «Пополь–Вух» монахом–доминиканцем Ф. Хименесом и др.
В данном случае в историческом облике католической церкви Ибероамерики проявились некоторые обшиє черты, возникшие во всех человеческих сообществах, затронутых «осевым» порывом. Как уже отмечалось, к числу центральных идей «осевой» эпохи относится идея несоответствия между «сущим» и «должным». Одно из главных последствий возникшего в результате переживания подобного несоответствия напряжения между сакральным и мирским порядками бытия заключалось в том, что «смысл человеческого существования стал конструироваться теми деяниями и поступками, которые имели целью преодолеть рассогласованность трансцендентного и земного». Это оказало огромное воздействие на институциональную сферу. Так, произошло выделение в социальном организме институтов, в представителях которых общество усмотрело наиболее адекватных носителей тенденций разрешения коренных противоречий Бытия, преодоления основных бытийственных напряженностей и конфликтов. Речь идет об особых культурных, чаще всего религиозных, общностях. Наибольшего развития данный феномен достиг в рамках «вселенских» церквей, ставших институциональным выражением мировых религий. В роли, так сказать, специалистов по разрешению противоречия (всегда неполному, ибо данное противоречие, разумеется, в рамках «осевой» традиции, неизбежно воспроизводится вновь и вновь) между мирским и сакральным измерениями бытия стали выступать священнослужители и монахи соответствующих конфессий.
Универсалистские ценностные ориентации мировых религий, предполагая апелляцию ко всем людям, независимо от разделяющих их социальных, культурно–этнических и государственных границ, тем самым ставили принадлежность к данным религиям (а следовательно, и к институтам соответствующих церквей) выше этих границ, т. е. выше всех институтов «мира сего», включая главный из них — власть. Отсюда вытекала претензия на определенную автономию культурно–религиозной сферы, на относительную самостоятельность тех, кто призван был нести на себе основной груз противоречия между мирским и сакральным порядками бытия. Причем принципиально важно то, что речь шла об автономии, прежде всего, по отношению к власть предержащим.
Проекция основных идей «осевого времени» в конкретную социальную действительность привела к коренным сдвигам во взаимоотношениях между сферой духа и сферой власти, причем именно в том, что касается определенных ценностных ориентаций. Будучи средоточием отношений от мира сего, политический строй воспринимался как нечто более низкое, нежели трансцендентная реальность, и посему от политических отношений требовалось переоформление в соответствии со священными заповедями и, прежде всего, с теми заповедями, которые требовали преодолеть расхождение между надмирными и земными порядками. И в этих условиях на правителей возлагалась ответственность на надлежащую организацию общественного строя.
В то же время и сама природа власти испытывала существенные внутренние преобразования. Исчезал институт архаических богоцарей, воплощавших в себе понятия о космическом и земном «ладе», на смену ему выдвигался институт мирских правителей, принципиально ответственных пред высшими порядками Бытия. Тем самым формировалось понятие об ответственности власти и общества перед наивысшим авторитетом — Богом, Священным Законом и т. д. Стало быть, появлялось и представление о том, что правитель может быть призван на суд.
Идеи об ответственности и подотчетности власть имущих некоей высшей духовной сфере, стоящей над ними, коренным образом противоречили свойственным мифологическому мышлению стремлениям к неограниченному господству над мирами материальной природы, человеческих отношений и оккультных сил. Эти стремления достигли своего максимального выражения в древнейших архаических деспотиях, в которых личность властителя приобрела статус божества — как в древних Египте и Месопотамии, а также в зоне высоких культур доколумбовой Америки. В числе главных достижений «осевого времени» — отказ от характерного для эпохи древнейших цивилизаций представления о власти как об абсолютной ценности и выдвижение идеи обязательной легитимации власти: последняя признавалась законной лишь в том случае, если могла оправдать свое существование перед лицом высшего порядка бытия.
Закономерным образом задача легитимации властных структур легла на возникшее из потребности разрешения противоречия между мирским и сакральным сословие духовных лиц. Разумеется, власть имущие всячески стремились поставить их под свой контроль. Во многих случаях это удавалось, и церковь превращалась тогда в ревностного защитника социального статус–кво, в консервативную социальную силу. Именно эту картину мы наблюдаем как на Пиренейском полуострове, так и в испанских колониях и в Бразилии, а позднее — во всей Латинской Америке; преобладание консервативной ориентации в иберийском католицизме по меньшей мере вплоть до 1960?х гг. — факт общеизвестный и достаточно очевидный.
Однако, как справедливо замечает, в частности, Ш. Н. Айзенштадт, поддержка и легитимация власти мирских правителей универсальными церквями отнюдь не были заранее предопределены или даны изначально. Напротив, они были обусловлены принятием со стороны правящих элит определенных ценностей и соответствующих им норм поведения, а также их желанием и умением установить определенный «модус вивенди» с религиозными организациями. В подобной ситуации при реальном распределении властных функций в обществе могли возникнуть и зачастую действительно возникали напряженность в отношениях между мирскими властями и духовенством и даже соперничество между ними. В подобной ситуации религиозные институты могли стать и во многих случаях становились особыми, относительно автономными факторами власти.
Стремление найти пути преодоления противоречия между «сушим» и «должным» нашло свое проявление не только в создании и деятельности религиозных институтов, но и в характерной для «осевых» религий установке на индивидуальную активность в деле спасения погрязшего в грехах мира Подобный «религиозный активизм» по-разному проявлялся у представителей тех или иных «вселенских церквей», неодинаковым было и отношение к человеческой активности в «посюстороннем» мире. Наконец, существовали важные отличия между представителями различных течений и в рамках самих мировых религий, особенно между христианскими вероисповеданиями. Хотя в целом для западного христианства, особенно после кардинальной смены его ценностных ориентаций в XII–XIII вв., было характерно признание (в разной степени на различных исторических этапах) относительной ценности мирской деятельности, место, отводимое этой деятельности в иерархии ценностей, было совершенно различным в католицизме и в протестантизме.
Так или иначе, именно чувство личной ответственности христианина за грехи и несовершенство мира побуждало к индивидуальной активности многих католических священников и монахов в Испанской Америке, в том числе и в политической сфере. Первоначальный толчок к этой активности дало острое переживание разрыва между «должным» для всякого христианина и «сущим» конкисты. Именно попытка осознать и разрешить этот конфликт лежит в основе знаменитой полемики о Новом свете XVI в. Следует отметить, что все основные темы этой полемики были воспроизведены и в аналогичном столкновении различных мнений о конкисте, колонизации и последующих судьбах данного региона в XVIII в., и в последней по времени «полемике о Новом свете XX в.», развернувшейся по обе стороны Атлантики в связи с 500-летием открытия Америки.
Разумеется, степень конфликтности в отношениях между католической церковью и власть предержащими в заморских колониях иберийских монархий не следует переоценивать. Более того, нельзя не сказать о том, что в иберийском католицизме жила и другая, по своей внутренней сути «антиосевая» тенденция: в специфических исторических условиях многовековой реконкисты, когда испанская и португальская культуры утверждали свою неповторимую целостность в процессе размежевания с арабской цивилизацией, католическая церковь на Пиренейском полуострове приобрела характер института, возглавившего духовное противостояние миру ислама.
В подобной ситуации для иберийского католицизма оказался характерен весьма воинственный оттенок и, что особенно важно, сформировалась традиция тесного сотрудничества между католической церковью и мирскими властями христианских государств (что отнюдь не исключало соперничества между ними). Реальностью стал и дух нетерпимости, нашедший свое институциональное выражение в деятельности инквизиции Именно здесь следует искать главные исторические истоки той консервативной линии в иберийском католицизме, о которой говорилось выше. Оказавшаяся весьма характерной для Римской курии в Средние века тенденция к опасному сближению (но при безусловном их различении) «Божьего» и «кесарева» с особой силой проявила себя именно на Пиренейском полуострове, а впоследствии — во владениях иберийских монархий в Новом свете.
Однако все сказанное не означало ни поглощения католической церкви государством, ни ее полного слияния с системой государственной власти. Определенная автономия церковных институтов и монашеских орденов по отношению к мирским органам управления Индиями, тем более к власть имущим на местах — энкомендеро, а позднее владельцам эстансий (в Бразилии — рабовладельческих плантаций), к латифундистам, — очевидная реальность Ибероамерики XVI–XVIII вв.
Сохранение относительной самостоятельности религиозной сферы, постоянно живущее в душах искренне и страстно верующих католиков ощущение личной ответственности за зло и грехи «мира сего», установка на активную позицию в борьбе против зла, за спасение души — все это вместе взятое обусловливало несводимость феномена иберийского католицизма к официальной ортодоксии, создавало возможность появления в его рамках неортодоксальных течений, вплоть до религиозных движений, прямо направленных против власть предержащих, против тех или иных конкретных форм гнета. Здесь можно проследить прямую линию исторической традиции, ведущую от Лас Касаса и его сторонников к М. Идальго и X. М. Морелосу, к той части католического клира, которая выступила на стороне патриотов в эпоху Войны за независимость, а от них — к современным «народной церкви» и «теологии освобождения».
Возможности, которые открывала относительная автономия культурно–религиозной сферы, не сводились к накоплению элементов гетеродоксии и возникновению оппозиционных течений. Она давала определенный простор творческому духу в рамках самих религиозных институтов. Этот дух проявлялся, несмотря на свойственное руководству этих институтов стремление замкнуть религиозную жизнь в жесткие рамки ортодоксии. Пожалуй, самым ярким примером подобного творческого горения может служить Хуана Инес де ла Крус, которую О. Пас с полным на то основанием рассматривает как своего рода символ всего того живого, что имелось в католическом мире Испанской Америки и что служило главным историческим оправданием его существования.
Определенная автономия «сферы духа» по отношению к «сфере власти» — это было нечто совершенно новое для доколумбовой Америки и глубоко чуждое глубинным основаниям ее цивилизационного строя. Следует признать, что именно представители Иберийской Европы принесли в Новый свет представления об ответственности правителей и необходимости легитимации власти. Укоренение этих представлений в социокультурном коде испанской и португальской исторических общностей явилось наиболее глубокой основой развития весьма специфической по формам своего проявления демократической традиции в христианских государствах Пиренейского полуострова. Главными ее составляющими стали: городские и общинные вольности, муниципальное самоуправление, сохранение в течение длительного периода реконкисты личной свободы крестьянства. Символом свободолюбия испанского духа могут служить: та присяга в верности древним законам, которую испанский король должен был давать кортесам (до 1521 г.), а также то заявление, которое сделали депутаты этого органа Карлу I (будущему императору Карлу V): «Государь, вы должны знать, что король является только платным слугой нации».
Хотя после поражения восстания «комунерос» в 1521 г. основная часть средневековых вольностей была ликвидирована, такой элемент их наследия, как кабильдо (аюнтамьенто), т. е. орган городского самоуправления, сохранился и был впоследствии перенесен на почву Нового света. Кабильдо в колониях были очень быстро поставлены под контроль королевской администрации, но они, тем не менее, сыграли роль формы существования демократической испанской традиции, так сказать, в свернутом виде. Традиция муниципального самоуправления оказалась необычайно живучей, и вирус мятежного испанского духа немедленно пробудился к новой жизни, как только возникли первые симптомы кризиса колониального строя. Отнюдь не случайно, что именно кабильдо стали первой институциональной основой движения за независимость в Испанской Америке.
Становление демократических традиций было неотделимо от достаточно высокой степени развития личностного начала в иберийском мире. Впрочем, последнее имело весьма своеобразные формы своего проявления. В ходе реконкисты возник специфический иберийский индивидуализм. Пожалуй, главная его особенность заключалась в том, что личность имела возможность заявить о себе в основном в военной сфере. Прообразом здесь служит, по-видимому, знаменитый Сид Кампеадор (Р. Диас де Вивар). Яркие представители этого типа индивидуализма — испанские идальго, в том числе и те из них, которые хлынули за океан в ходе конкисты.
В принципе, в исторической науке, в том числе и в отечественной, утвердилось понимание конкистадора как переходного исторического типа, в котором самым причудливым образом соединились черты средневековья и наступающей буржуазной эпохи: на наследие реконкисты наложилось влияние Ренессанса. В этом плане весьма типично для многих деятелей конкисты сочетание вполне искренней и горячей веры в свое предназначение как крестоносцев, как орудия осуществления «Божественного Промысла» — цели христианизации язычников, с меркантильными соображениями. Хорошо иллюстрирует эту мысль высказывание одного из рядовых участников конкисты Берналя Диаса дель Кастильо, следующим образом сформулировавшего ее цель: «Служить Богу, его величеству и дать свет тем, кто пребывал во мраке, а также добыть богатства, которые все мы, люди, обычно стремимся обрести».
Здесь прослеживается характерная для иберокатолического мира иерархия ценностей: богатство признается в качестве ценности, но оно должно быть обязательно санкционировано, легитимировано некоей высшей целью, высшей по отношению к собственно меркантильным соображениям.
Для иберийского индивидуализма типично крайне противоречивое отношение как к государственной власти, так и к спонтанной активности личности. С одной стороны, как реконкиста, так и конкиста в значительной мере носили характер частных предприятий: и Сид, и Кортес организовывали свои походы и экспедиции за собственный счет, под свою ответственность и против воли тех местных властей, под юрисдикцией которых находились те территории, где подготавливали свои акции упомянутые деятели. Однако одновременно и тот, и другой действовали во имя короля и во благо испанской монархии. Особенно ясно это видно на примере Кортеса, в конечном счете подчинившегося испанской государственной бюрократической машине. Анархическое своеволие первых конкистадоров самым причудливым образом сочеталось с типичной для подавляющего их большинства лояльностыо по отношению к королевской власти и к быстро поставившей Индии под свой контроль бюрократической колониальной администрации.
Как нетрудно заметить, иберийское начало в Новом свете являло собой нечто в высшей степени противоречивое: с одной стороны, ярко выраженный индивидуализм; с другой — тенденция подчиняться государственной власти; с одной стороны, относительная самостоятельность религиозной сферы, заключавшая в себе мощные потенции дальнейшего развития; с другой — «союз креста и меча», опасное сближение «Божьего» и «кесарева». Наконец, одним из наиболее существенных проявлений этой противоречивости явилось сочетание универсалистской ориентации и духа религиозной нетерпимости в иберийском католицизме.
Для судеб латиноамериканского синтеза огромное значение имело то обстоятельство, что, вопреки этому духу, испанская и португальская культуры сформировались как культуры в целом открытые, основанные на полифонии разных «голосов». К XV–XVI вв. это были становящиеся целостности, характеризующиеся напряженным диалогом различных начал: западнохристианского, арабомусульманского, еврейского.
Иберокатолическая культура эмпирически выработала многообразные богатые формы связи, соединения и взаимодействия с иными культурами, прежде всего с арабской. Те или иные формы такого взаимодействия наиболее зримо воплотились в испанской архитектуре. Укажем в этой связи на два ее образца, позволяющие ярко проиллюстрировать данный тезис. На наш взгляд, одним из наиболее выдающихся примеров синтеза на испано–христианской основе (но с органическим включением в целостность архитектурного ансамбля ряда арабских элементов) является Толедский собор. Ярчайшим символом иного типа взаимосвязи — симбиоза предстает знаменитый архитектурный комплекс, как правило, фигурирующий в различных изданиях под названием «Кордовская мечеть»: он олицетворяет собой неразрывное парадоксальное единство многообразных, относящихся к различным эпохам и культурам компонентов, прежде всего — здания прежней мусульманской мечети и встроенного в него католического храма.
Без опыта взаимодействия цивилизаций на Пиренейском полуострове был бы невозможен и латиноамериканский синтез. Именно качество «открытости», непосредственно основанное на христианском универсализме, а отнюдь не военные победы и факт господствующего социального положения иберийских завоевателей и их потомков в Новом свете, в решающей степени объясняет то, что ибероевропейское начало сыграло ведущую роль в процессе синтеза.
Однако, констатируя это обстоятельство, следует еще раз подчеркнуть, что католическая система ценностей отнюдь не сводилась к универсализму: в ней имелись и противоположные по своему характеру ценностные ориентации, оказавшие весьма значительное влияние на весь иберийский мир. Здесь важно отметить, что подобные ориентации опирались на определенные тенденции в самом европейском христианстве.
Когда родилась эта религия, ее основное содержание пришло в острейшее противоречие с упоминавшейся уже главной центробежной силой истории, социально–психологическим комплексом «они и мы», и многообразными идеологическими надстройками, на нем основанными. Хотя универсализм мировых религий произвел величайший переворот в духовном мире человечества, данный сдвиг не привел к исчезновению упомянутого комплекса: эта унаследованная от первобытности «окаменелость сознания» (за Л. С. Выготским) и поведения оказалась необычайно живучей, способной к воспроизведению на почве самих мировых религий, в том числе и христианства, вступая при этом в противоречие с его общечеловеческим содержанием. Претензия на монопольное владение истиной и основанная на ней нетерпимость оказались главными каналами, через которые дохристианское, мифологическое, в конечном счете — «доосевое» первобытное начало воздействовало на христианский мир.
Во всей истории христианства (как, впрочем, и остальных мировых религий) четко прослеживается борьба двух линий: представители одной из них, прямо опираясь на евангельские тексты, прежде всего — на послания апостола Павла, отстаивали мысль о том, что христианская экумена в принципе открыта всем; для сторонников другой характерно стремление обосновать тезис, в соответствии с которым нехристиане — это либо вообще нелюди (в наиболее экстремистской версии), либо, по меньшей мере, неполноценные люди, «людишки», «гомункулы», как говорил X. Хинес де Сепульведа, основной оппонент Б. де Лас Касаса.
Борьба двух линий в христианстве вспыхнула с новой силой в связи с первой полемикой о Новом свете, развернувшейся после открытия и завоевания Америки. Столкновение с необычной действительностью Нового света (о котором ничего не говорится в священных текстах авраамических религий) и реалиями конкисты привело к кризису сознания мыслящей части испанского общества, оказавшемуся в конечном счете продуктивным. Ломка прежних представлений, огромное расширение горизонтов познания мира и человека — все это привело в итоге к переходу испанской гуманистической традиции на качественно более высокий уровень развития. Этот уровень можно выразить одной фразой Б. де Лас Касаса: «Все нации мира — люди...».
Это был полный и осмысленный разрыв с принципом «они и мы», с этой «окаменелостью» сознания и поведения, в плену которой находились и подавляющее большинство конкистадоров, и идеологи конкисты типа X. Хинеса де Сепульведы. В плане рассматриваемой темы особенно важно отметить, что, прорыв Лас Касаса к идее всечеловеческого единства, осуществленная им реактуализация изначального христианского универсализма стали результатом осмысления конкретных реалий Нового света.
Несмотря на упорную борьбу гуманистических кругов, прежде всего представителей линии Лас Касаса, основные черты иберокатолического начала после поражения восстания «комунерос» в 1521 г. и особенно с наступлением эпохи контрреформации определили наличествовавшие в этом начале консервативные и реакционные тенденции. О некоторых из них уже упоминалось выше: религиозная нетерпимость и фанатизм — изнанка христианского универсализма; опасное сближение «Божьего» и «кесарева», тесная связь государства и католической церкви, нашедшая одно из главных своих проявлений в сотрудничестве государственного аппарата подавления и инквизиции. Формирование подобного альянса духовной и светской власти не могло не привести к чрезмерному усилению государства в ущерб обществу. Именно с этим обстоятельством во многом связана победа реакционной альтернативы развития Испании после 1521 г.
Характерной чертой исторического облика ибероамериканского мира (прежде всего, в испанских колониях) стало огромное разрастание бюрократического аппарата управления. Государство и на Пиренейском полуострове, и в заокеанских колониях иберийских монархий стремилось поставить под свой полный контроль не только политическую, но и экономическую сферу. Достаточно вспомнить в этой связи систему торговых монополий и запретов на производство определенных товаров в Индиях, централизованное распределение чиновничеством трудовых ресурсов (главным образом, через позаимствованную из инкского наследия систему миты) и т. п.
Одной из главных отличительных черт иберийского цивилизационного архетипа явилось вполне определенное соотношение различных подсистем социальной системы: примат политики над экономикой, политических целей (прежде всего цели сохранения существующего строя, его стабильности) над логикой экономической, хозяйственной целесообразности.
Духовная же сфера находилась под полным контролем католической церкви, в рамках которой, как уже отмечалось выше, консервативная линия в целом преобладала. Одним из главных выражений этого явилось крайне недоверчивое, более того — враждебное отношение католической иерархии к любым проявлениям самостоятельной творческой активности человеческого разума. Достаточно вспомнить в этой связи, на какую стену непонимания и настороженности натолкнулись интеллектуальное любопытство и исследовательский дух таких выдающихся представителей иберокатолического мира, как X. Инес де ла Крус и К. де Сигуэнса–и–Гонгора. Что же касается открытых ересей или запрещенных во владениях испанской и португальской монархий «подрывных» идей западного происхождения, то они подавлялись и искоренялись с помощью инквизиции.
Все это дало основание многим как в XIX, так и в XX вв. считать, что отличительной особенностью иберокатолического духа является преобладание авторитета и церковной традиции над разумом, стремление ограничить свободу выбора личности очень жесткими рамками ортодоксального католического миропонимания.
Альянс государства и церкви пытался поставить под свой контроль все стороны жизни подданных пиренейских монархий. С этим оказалась непосредственно связана такая отличительная черта иберийской традиции, как смешение частной и публичной сфер жизни, отсутствие между ними четких границ. Это вело, с одной стороны, к постоянным вторжениям государственных и церковных институтов в область частной жизни, с другой, — к тому, что у представителей иберокатолического мира укоренилась привычка рассматривать публичную сферу как нечто никому в отдельности не принадлежащее, на что, следовательно, имеют право все: первый, кто сумел отхватить какую-то часть этого общего социального пространства (например, какую-то государственную собственность), рассматривал себя в качестве ее законного владельца. По свидетельству ряда исследователей, эта черта стала одной из констант иберийского мира. К примеру, такие ученые, как аргентинец Г. О’Доннелл и бразилец Р. Да Матта, констатируют сохранение только что охарактеризованного соотношения публичной и частной сфер жизни в Бразилии вплоть до наших дней. Причем речь идет отнюдь не о периоде военной диктатуры, а об эпохе конституционного правления конца 1980?х гг.
Смешение частного и публичного измерений общественной жизни было теснейшим образом связано с относительной (по сравнению с ведущими странами Запада) неразвитостью правовой структуры и со смешением сфер права и власти. Иными словами, иберокатолический мир вплоть до XIX в. не знал принципа разделения властей. Впрочем, здесь необходима оговорка.
Как справедливо отмечали многие исследователи, в том числе латиноамериканские мыслители, отличительная особенность политического строя испанских колоний состояла в том, что он представлял собой сознательно сконструированную испанской короной систему соперничающих центров власти, ни один из которых не обладал всей полнотой властных полномочий. Так, судебные органы, аудиенции, были независимы от вице–королей. В принципе, здесь можно увидеть некую первичную предпосылку движения в направлении признания в будущем принципа разделения властей. Но не более того: нельзя забывать, что и вице–короли, и аудиенции в Индиях были лишь различными представителями одной власти — королевской. На самом высоком уровне принятия решений тот, кто имел власть, устанавливал и законы. Эта колониальная традиция совмещения сферы власти и сферы права воспроизвелась после Войны за независимость в деятельности латиноамериканских каудильо, воплощавших на подвластных им территориях и власть, и закон.
Поскольку закон в подавляющем большинстве случаев прямо и непосредственно служил власть предержащим, а опирающееся на соответствующее громоздкое законодательство бюрократическое регулирование всех сторон жизни связывало человека по рукам и ногам, как-то проявить свою инициативу личность могла лишь в обход официально установленных законов и норм. В связи с этим во многих слоях населения ибероамериканских обществ, прежде всего в социальных низах, укоренилось недоверчивое, отчужденное отношение к законности и праву вообще. Даже в тех случаях, когда люди не шли на прямое столкновение с существующими порядками, установленные официально юридические нормы воспринимались зачастую как нечто, допускающее интерпретацию с «точностью до наоборот».
Так, характерной чертой повседневной жизни в американских колониях Испании стало такое отношение к закону, которое может быть выражено с помощью известной формулы: «Повинуюсь, но не исполняю». Многие исследователи прослеживают сохранение подобного отношения к правовой сфере в латиноамериканских странах вплоть до наших дней. Причем с особой силой этот феномен проявляется в рамках т. наз. неформального сектора.
Слабость сферы права обусловила восприятие его как чего-то сугубо вторичного по сравнению с политическими целями, формулируемыми государством. Эта характеристика иберийской политической культуры, в том числе и в ее колониальном варианте, воспроизвелась и после достижения странами региона независимости. Приведем в этой связи некоторые характерные высказывания выдающегося государственного деятеля Чили Д. Порталеса.
Пожалуй, самая типичная черта его мировоззрения — выдвижение в качестве приоритетной ценности порядка. Демократия признается им лишь постольку, поскольку способна подобный порядок обеспечить. Свободой же, в том числе индивидуальной, как и правовыми гарантиями, можно и нужно жертвовать во имя сохранения стабильности общества. По словам Д. Порталеса, законы законами, а эту дамочку по имени Конституция приходится насиловать, когда обстоятельства к тому вынуждают. Да и какая в том беда, коль скоро в первый же год с этой барышней такое уже не раз приключалось из–за ее полнейшей никчемности. Для Д. Порталеса закон воплощен в правиле: «Судить честно и беспристрастно — вот и весь закон».
Не случайно именно эту сторону мировоззрения Д. Порталеса в первую очередь акцентировали идеологи режима А. Пиночета после сентябрьского переворота 1973 г. При этом они (как, впрочем, и сторонники всех диктатур как XIX, так и XX вв. в странах Ибероамерики) опирались на вполне определенные авторитарные характеристики иберокатолического наследия.
В рамки этой авторитарной традиции вписываются также и очень характерные для иберийского мира корпоративизм и жесткое иерархическое деление общества. Пожалуй, наиболее полное выражение данная тенденция получила в той системе иерархии разных социально–этнических групп, которая была создана в испанских колониях в Америке. Принципом, положенным в основу этой системы, была степень близости к «чистокровным испанцам (португальцам)», занимавшим верхушку общественной пирамиды. При этом учитывались не столько чисто расовые признаки, сколько принадлежность к кругу «старых христиан», ряд поколений предков которых являлись правоверными католиками. В данном случае мы сталкиваемся с классическим примером извращения и, по существу, превращения в собственную противоположность универсалистского импульса христианства.
Хотя жесткая иерархическая система колониального общества была, казалось бы, сметена в ходе революционных движений XIX в., страны Латинской Америки прошли длительный путь демократического развития в XIX–XX вв., черты жесткой иерархичности, противоположные по сути своей правовому эгалитаризму западной традиции, многие исследователи прослеживают и в Испанской Америке, и в Бразилии до настоящего времени.
На традиции (отнюдь не умершие) средневекового иберокатолического корпоративизма, бесспорно, опирались и создатели корпоративно–фашистских режимов XX в. в Испании и Португалии, и те, кто пытался осуществить корпоративистские эксперименты на латиноамериканской почве («Новое государство» Ж. Варгаса в Бразилии, перонистский корпоративизм и корпоративистские эксперименты Онганиа в Аргентине, отчетливо проявившиеся, особенно на ранних стадиях существования военной диктатуры, корпоративистские тенденции пиночетовского режима в Чили и др.), хотя по своему конкретному социальному содержанию все эти исторические разновидности авторитарно–корпоративного порядка, бесспорно, сильно отличались друг от друга. Делая такую оговорку, следует в то же время признать, что главный лозунг правокатолических националистов XX в. «Порядок и иерархия» непосредственно воспроизводит иерархию ценностей колониального периода истории Ибероамерики.
Все только что перечисленные черты иберийского культурно–цивилизационного архетипа (авторитаризм, корпоративизм, неразличение публичной и частной сфер жизни, преобладание государства над обществом, в частности, традиция государственного контроля над экономикой, господство католической ортодоксии в духовной сфере) теснейшим образом взаимосвязаны и взаимообусловлены. В своей совокупности они составляют некое единство, которое может быть условно охарактеризовано как «иберокатолический авторитарный комплекс». Комплекс этот господствовал на протяжении колониального периода, в значительной степени сохранился после завоевания независимости и (в ряде своих основных характеристик) воспроизвелся в политической, социальной, экономической и духовной жизни стран региона в XX в.
Есть, бесспорно, самые серьезные основания говорить о глубокой укорененности основных черт «авторитарного комплекса» в социальном генотипе иберийского мира. Основываясь на этом в принципе вполне справедливом выводе, ряд американских ученых полностью отождествил иберийское начало с охарактеризованным комплексом, и вывел заключение, что именно иберийское наследие является главным препятствием на пути модернизации в Латинской Америке.
Признавая частичную правомерность подобного хода рассуждений, следует в то же время подчеркнуть, что в данном случае мы сталкиваемся с абсолютизацией одной из сторон иберийского феномена. С подобной абсолютизацией нельзя согласиться — прежде всего потому, что содержание пиренейского «социального генотипа» отнюдь не сводится, как это уже было показано, к «авторитарному комплексу». Последний находился и находится в вопиющем противоречии с теми восходящими к «осевой» традиции особенностями иберокатолического начала, которые как раз и позволили ему породить в результате процесса культурного синтеза новый человеческий мир. Хотя о них упоминалось, перечислим эти особенности еще раз, чтобы в полной мере проиллюстрировать противоречивость иберийской составляющей процесса межцивилизационного взаимодействия в Латинской Америке: универсализм, открытость, комплекс представлений об относительности и вторичности ценности власти, о подотчетности правителей высшему, сакральному порядку бытия и необходимости обязательной легитимации их власти, ярко выраженная тенденция к личной независимости индивида и основанная на ней демократическая традиция, пробивавшая себе дорогу вопреки корпоративистским ограничениям, королевскому деспотизму и бюрократическому произволу.
Одним из главных недостатков упомянутых западных теорий, авторы которых рассматривают проблему иберийской традиции в Латинской Америке, — трактовка этой традиции как чего-то застывшего, не подверженного сколько-нибудь существенным изменениям. Между тем, названная традиция — это сложная модифицирующаяся система, на протяжении своего развития вбиравшая в себя достижения других народов.
Уже в эпоху Ренессанса происходило активное заимствование элементов духовного опыта стран Европы. Испанские гуманисты поддерживали, как известно, тесные связи с Эразмом Роттердамским. X. Инес де ла Крус и К. де Сигуэнса–и–Гонгора активно интересовались учением Декарта, а также достижениями экспериментальной физики и астрономии. С наступлением эпохи Просвещения новации западного происхождения стали оказывать все более мощное воздействие на иберийский мир. Главными из этих новаций стали политическая демократия и гражданское общество. В конце XVIII–XIX вв. начался очень сложный и трудный процесс их усвоения латиноамериканской «почвой». Причем, если в начале позапрошлого столетия традиция политической демократии (в ее зрелом виде) еще не была ибероамериканской политической традицией, то на протяжении XIX–XX вв. она (несмотря на все возможные оговорки о слабости институтов представительной демократии и структур гражданского общества в регионе) стала таковой.
С течением времени менялся конкретный социальный облик носителей иберийского начала. Если еще в начале и в середине XIX в. основными социальными типами, воплощавшими это начало, были главным образом помещики–латифундисты (в Бразилии, соответственно, владельцы рабовладельческих плантаций) и традиционные купцы испанского и португальского происхождения, то с конца позапрошлого столетия, в связи с массовой эмиграцией за океан представителей иберийских этносов, значительный вес приобретают (главным образом в «переселенческих» странах) представители «среднего класса» — выходцы с Пиренейского полуострова. Испанские трудящиеся, представители пролетариата, переселившиеся за океан, способствовали возникновению и развитию рабочего движения. Появление рабочих организаций, партий и профсоюзов и деятельность их создателей, в том числе испанцев и португальцев, способствовали обогащению политической культуры стран Латинской Америки, становлению гражданского общества.
В результате развития процесса культурного синтеза в XVIII–XIX вв. сложилась ибероамериканская основа целостности большинства формирующихся латиноамериканских наций, генетически связанных с народами Пиренейского полуострова. То, что подобная основа — историческая реальность, со всей очевидностью выявилось в последней трети XIX — начале XX в., когда она сумела сохраниться в условиях массовой европейской иммиграции. Это нашло свое отражение прежде всего в сохранении в качестве национального испанского (в Бразилии — португальского) языка, а также основных черт духовной культуры и самосознания, сложившихся ранее. Во втором–третьем поколениях иммигранты из Европы в странах Испанской Америки в большинстве случаев ассимилировались испаноязычным этносом.
Хотя этнический процесс в Бразилии пошел несколько более сложным, зигзагообразным путем, в принципе и здесь превалирующей оказалась тенденция к сохранению португалоязычной основы как главной базы формирования целостности бразильской нации. Как справедливо отмечают многие исследователи, и в наши дни испанский (в Бразилии — португальский) язык и католическая в своих наиболее глубоких проявлениях культура — наиболее очевидные повседневные свидетельства жизненности «иберийского присутствия» в Латинской Америке, его глубокой укорененности в странах региона.
Не случайно многие выдающиеся мыслители Латинской Америки конца XIX — начала XX вв. (здесь можно проследить линию преемственности, ведущую от X. Марти и X. Э. Родо к X. Васконселосу, М. Угарте, П. Энрикесу Уренье, А. Рейесу, М. Брисеньо Ирагорри) утверждали значимость иберийского наследия как решающего (или, во всяком случае, одного из решающих) фактора формирования латиноамериканской идентичности. При этом, что особенно характерно, отстаивалась ценность испанской и португальской традиций не самих по себе, взятых изолированно, а именно как важнейших участников процесса синтеза культур. Среди латиноамериканских мыслителей XX в. с наибольшей ясностью и силой эту тенденцию в трактовке «иберийской проблемы» выразили X. Васконселос с его концепцией «космической расы», П. Энрикес Уренья, М. Брисеньо Ирагорри, Л. Сеа.
В XX в. резко обострилась борьба противоположных по своей социальной сути составляющих иберокатолического начала. Пожалуй, кульминационным пунктом этой борьбы явилась гражданская война в Испании в 1930?е гг. Прогрессивные, демократические силы Латинской Америки активно опирались на демократическую испанскую (главным образом) и португальскую традицию. Главным же ориентиром для наиболее консервативных и реакционных сил региона на долгие годы стали корпоративно–фашистские режимы Франко и Салазара.
Новый этап в развитии иберийского мира начался во второй половине 1970?х — начале 1980?х гг. после падения франкистского режима в Испании и ряда правоавторитарных режимов в Латинской Америке, португальской революции и перехода к демократическому правлению как обеих стран Пиренейского полуострова, так и крупнейших государств региона к югу от Рио–Гранде.
В наше время уже никак нельзя утверждать, что единственными постоянными определяющими чертами иберийского начала являются авторитаризм, корпоративизм, консерватизм и т. п. — все то, что было обозначено выше как «иберокатолический авторитарный комплекс». Сами реалии политической и социальной жизни убедительно подтверждают, что демократические ценности укоренились как на Пиренейском полуострове, так и в Латинской Америке. Вместе с тем это отнюдь не означает, что противоположные им ценностные ориентации исчезли: иберийская составляющая цивилизационного кода Латинской Америки и в наше время сохраняет свою противоречивость.
Эта противоречивость проявляется не только в восприятии идей и институтов политической демократии, но и по отношению ко всему комплексу ценностей модернизации. Когда Испания и Португалия, а затем и их колонии в Новом свете познакомились в XVII–XVIII вв. с этими ценностями, последние представляли собой для иберийского мира нововведения западного происхождения, не выросшие органически из его собственной социокультурной почвы и, следовательно, первоначально чуждые ему. Проблема постепенного, крайне сложного восприятия ценностей модернизации Ибероамерикой предстает как проблема ее взаимодействия с собственно западной традицией, сформировавшейся в главных центрах «фаустовской» цивилизации.
Таким образом, цивилизационное лицо Латинской Америки и Карибского бассейна вполне вписывается в общечеловеческую структуру и схему мировой цивилизации, имея при этом свою цивилизационную специфику и оригинальные особенности.
| <<< Назад Латиноамериканский духовно–культурный симбиоз (В. П. Кириченко) |
Вперед >>> Латиноамериканская цивилизация XIX–XX вв. (В. Г. Космина) |
- Латиноамериканская цивилизация и ее истоки (В. Г. Космина)
- Колониальная Латинская Америка: формирование основ новой цивилизации (В. Г. Космина)
- Латиноамериканский духовно–культурный симбиоз (В. П. Кириченко)
- Идейно–ценностные основания Латиноамериканской цивилизации (В. П. Кириченко)
- Латиноамериканская цивилизация XIX–XX вв. (В. Г. Космина)
- Латиноамериканская экономика в эпоху глобализации (О. Б. Шевчук)
- Проблема осознания государствами Латинской Америки своей идентичности в международном контексте (А. И. Ковалева)
- Глава 1. Часть нашей цивилизации
- Промышленный переворот и научно-технические революции – этапы европейской цивилизации
- Глава 15. Цивилизации и достижения
- § 52 Строение и свойства неорганических веществ. Кислоты и основания
- Сложные неорганические вещества: кислоты и основания.
- III. Долго ли живут разумные цивилизации?
- 116. Что древние цивилизации знали о Вселенной?
- Европа: потенциальный проводник основ мировой цивилизации
- Глава 4. Разум вне цивилизации
- Часть II. Жизнь в цивилизации
- Разум без цивилизации?
- О следах цивилизации