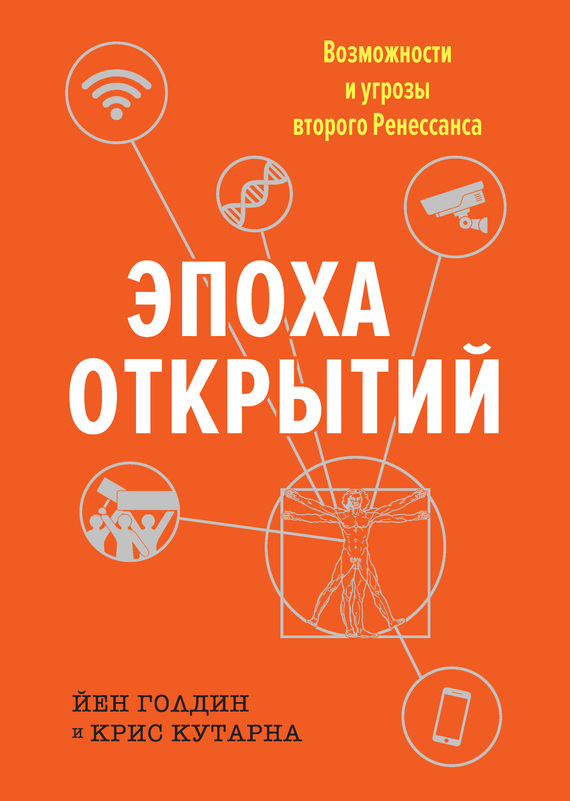Книга: Эпоха открытий. Возможности и угрозы второго Ренессанса
Цена нарушенного договора
| <<< Назад Когда основной поток разделяется |
Вперед >>> Часть IV Борьба за будущее |
Цена нарушенного договора
Протест всегда был характерной чертой общественной жизни. Примечательными в протестах, бушевавших в предыдущем Ренессансе, были, во-первых, их сила, широта и частота, а во-вторых, та роль, которую в их возникновении сыграли новые технологии. Эти признаки, безусловно, наблюдаются и в Новом Ренессансе. В 2011 г. журнал Time назвал человеком года собирательный образ «Протестующего» в знак признания роли социальных движений, которые прокатились по всей планете от Нью-Йорка до Нью-Дели. Facebook, Twitter, WhatsApp и Snapchat стали для недовольных средством найти друг друга и объединить свои голоса.
Другой примечательной особенностью социального протеста эпохи предыдущего Ренессанса, от костра Савонаролы до Реформации Лютера, было изменение фокуса общественного негодования, которое переключилось с коррумпированных лидеров на коррумпированную систему в целом и привело к выводу, что для улучшения ситуации от системы необходимо отказаться. Так, в Сиэтле люди верили, что демократия поможет все исправить, и именно отсутствие демократического контроля в сфере торговых операций вызывало у них возмущение. Но к тому времени, как протестующие собрались в Зукотти-парке в Нью-Йорке, лозунг «Если бы голосование что-то меняло, оно уже давно бы это изменило» вышел в топ популярных хештегов. «Ошибка 404: Демократия не найдена» – под этим лозунгом выступало греческое Движение возмущенных граждан. Главный лозунг «арабской весны» был еще более прямолинейным: «Люди хотят свергнуть режим». Со временем традиционные политические игроки – разнообразные профсоюзы и оппозиционные партии – окончательно отошли в тень, поскольку население больше не доверяло им. Эти организации были связаны с теми же институтами, которые постыдным образом не справились со своей задачей представлять интересы населения и реагировать на его трудности.
Сегодня многие протестующие разошлись по домам, но вера в то, что традиционная политика может выполнять условия справедливого общественного договора во всем демократическом мире, уничтожена. Наследие движения «Захвати» и других оппозиционных движений – непоколебимое общественное разочарование – проявляется в том, что в последние годы на выборах побеждают крайне правые и крайне левые политики, которые обещают улучшить ситуацию, отменив все то, что сделали их умеренные предшественники. Оно проявляется в том, что избирателей теперь очаровывают когда-то считавшиеся неприличными резкие высказывания ведущих участников предвыборной гонки США, Великобритании, Франции и других крупных демократических стран, об иммигрантах, торговых партнерах и моральной слабости центристских политиков. Оно наглядно проявляется в новых конституционных кризисах, таких как шотландский референдум 2014 г. по вопросу о целесообразности разрыва трехсотлетнего союза с Великобританией. Понаблюдав за сменяющими друг друга правыми и левыми правительствами, многие шотландцы разуверились в политическом спектре Великобритании в целом и решили, что пришло время попрощаться. Сепаратисты проиграли, но с 45 % голосов они также и выиграли: в ходе развернувшихся после референдума конституционных переговоров Шотландия все равно забрала у британского правительства право принимать политические решения, касающиеся ее населения.
Тем временем картина неравенства в нашем обществе продолжает ухудшаться. Представьте себе: десять человек едят пирог. Один человек получает половину пирога. Пять человек делят между собой другую половину. Оставшиеся четыре человека собирают крошки (в этом случае 3 %). В 2015 г. таким в среднем было распределение доходов домохозяйств в 18 развитых странах, статистические данные по которым доступны [63]. (В США один человек получает четыре пятых пирога.) В развивающихся странах часто бывает трудно определить, кто и чем на самом деле владеет, но в целом разрыв между имущими и неимущими там еще больше.
Богатство – лишь один из аспектов общественного договора. Также сохраняется глубокое неравенство в вопросах здоровья, образования и возможностей, а во многих случаях оно даже ухудшилось. В США белые до сих пор живут в среднем на пять лет дольше, чем черные [64]. В Париже у людей, живущих к северо-востоку от Сены (реки, которая географически рассекает город на две части), шансов получить высшее образование в два раза меньше, чем у тех, кто живет на юго-востоке [65]. В Австралии взрослые граждане, зарабатывающие менее 20 тысяч долларов в год, в два раза чаще страдают от хронических заболеваний, болезней сердца, диабета или депрессии, чем те, кто зарабатывает более 50 тысяч долларов [66].
Чтобы обновить нашу веру, нам нужен новый общественный договор. Так считал Лютер. Так следует считать и нам. Для него этот новый общественный договор означал новое равенство перед Богом. Для нас он означает новое равенство друг с другом.
Новый диспут
Теперь, как и тогда, этот спорный вопрос решительно разделяет нас, и от исхода дискуссии зависит социальное единство.
Прежде всего это вопрос этики. Некоторые утверждают, что с нравственной точки зрения неравенство вполне справедливо, поскольку оно отражает разницу затраченных усилий, сообразительности и готовности идти на риск. Попытки критиковать богатых за то, что они пользуются выгодным случаем, когда другие этого не делают, больше говорят о зависти, чем о несправедливости.
Другие соглашаются, но тут же указывают на то, что бо?льшая часть этого богатства приобретена нетрудовым путем. При этом они критикуют не столько роль удачи, которая, хорошо это или плохо, имеет значение в жизнь каждого человека, сколько недостатки законодательных, экономических и правовых институтов, которые поощряют наследственную передачу богатства и влияния вместо личных усилий, а также указывают на то, что возможности обычно концентрируются в руках тех, кто уже богат.
Существует также нравственный вопрос об обязательствах богатых. Разумеется, в какой-то момент потребности тех, кто имеет меньше, перевешивают требования тех, кто уже обладает всем в избытке, – не так ли? Почти 900 миллионов человек в мире живут в нищете, 3,1 миллиона детей ежегодно умирают от голода [67]. Что это – просто несчастный случай или нравственное бездействие?
Кроме того, у неравенства есть экономический аспект.
С одной стороны, неравенство – всего лишь одно из последствий развития частной собственности и работы стимулов, из которых состоит капитализм. Капитализм является лучшей известной нам системой улучшения общего экономического благосостояния. История XX в. доказала, что альтернативы просто не существует. Если мы хотим пожинать преимущества динамичной, конкурентоспособной экономической системы, мы должны воспевать, а не демонизировать богатство, которое она создает, и спокойно принимать возникающие в результате различия. В 1990 г. акции трех крупнейших компаний Детройта стоили 36 миллиардов долларов, компании обеспечивали занятость 1,2 миллиона работников. В 2014 г. три крупнейшие фирмы Кремниевой долины стоили почти в 30 раз больше (более 1 триллиона долларов), но платили зарплату в девять раз меньшему количеству сотрудников (137 тысяч человек) [68]. Появление горстки миллиардеров и потеря миллиона рабочих мест – та цена, которую нам приходится платить за технологические достижения.
Или нет? Оппоненты быстро уточняют этот аргумент. После определенного момента преимущества, связанные с сохранением и увеличением богатства, теряют силу из-за неэффективности рынка, обусловленной экстремальным неравенством. Было доказано, что экстремальное неравенство угнетает экономический рост [69]. (Логика такова: когда богатые становятся богаче, они не покупают больше вещей, потому что у них уже все есть, – они просто делают больше накоплений. Но если бедные становятся богаче, они покупают все, чего им не хватало, – в том числе, и это самое главное, хорошее здоровье для себя и хорошее образование для своих детей.) Используя свои огромные богатства для того, чтобы влиять на политику, богатые вносят в экономику искажения, которые приносят пользу им и их фирмам, но подавляют инновации и замедляют широкий экономический прогресс.
Эта модель наиболее очевидно проявляет себя в авторитарных государствах. В Китае более трети всего богатства страны находится в руках 1 % граждан [70]. Коррумпированные чиновники, многие из которых сейчас в опале, накопили личные состояния за счет контроля над государственными активами и права раздавать лицензии и контракты без независимого надзора. Ангола, наделенная огромными природными ресурсами, существует, по сути, при клептократии – лидеры страны, по выражению журнала The Economist, «живут в африканской версии Сен-Тропе», в то время как в столице государства Луанде у 90 % жителей нет водопровода [71]. Все это примеры явления, которое экономисты называют «погоней за рентой», – стремления делать деньги, отбирая богатство у других членов общества, а не создавая его заново.
Но и в демократических институтах, захваченных влиятельной элитой, может процветать коррупция, – элита заставляет их обслуживать свои интересы, нанося тем самым ущерб широкой экономике. В США 1 % наиболее состоятельных граждан принадлежит более трети всех доходов [72]. Законодательные органы имеют огромные полномочия для передвижения богатства вверх или вниз по социальной лестнице: путем расширения или сокращения программ социального обеспечения; распределения налогового бремени между богатыми и бедными, инвесторами и наемными работниками, а также между корпорациями и частными лицами; путем ценообразования и продажи государственных активов и общественных благ, таких как железные дороги, почта, объекты нефтяного промысла и беспроводной спектр; путем дерегулирования или обратного регулирования промышленности; облегчая или затрудняя для частных лиц и корпораций процесс погашения долгов через банкротство; выбирая, на какую цель будет направлена денежно-кредитная политика – на снижение инфляции или обеспечение полной занятости.
В 2012 г. во время президентских выборов и выборов в конгресс США кандидаты собрали и потратили рекордную сумму – 7 миллиардов долларов [73]. Выборы 2016 г. вполне могли бы обойтись в два раза дороже [74]. Очевидно, что вступлением на пост успешные кандидаты (и их штатные сотрудники) во многом обязаны лоббистам и другим финансовым покровителям, которые платят за проведение предвыборной кампании. Одно из самых распространенных требований лоббистов – возвращение налогов, которые сокращают государственные инвестиции в образование, здравоохранение, социальное обеспечение, инфраструктуру и обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям. Они также стремятся к дерегуляции, способствующей развитию сложноорганизованности и концентрации опасностей, о которых мы говорили в предыдущей главе, и тем самым провоцирующей возникновение финансовых, экологических и других кризисов. Кроме того, они стремятся укрепить свои права на интеллектуальную собственность, расширяя монополии, предоставленные им патентами и авторскими правами, до того предела, когда эти законы скорее ограничивают, чем развивают творческий потенциал и инновации.
Общественное мнение, кажется, сошлось на том, что некоторое неравенство – это хорошо. Следующий вопрос – «Но где оно должно заканчиваться?» – также вызывает разногласия, заставляя нас спорить друг с другом о причинах происхождения неравенства, об убытках, которые оно приносит, о том, что с этим делать и возможно ли здесь вообще что-либо сделать.
Смена курса: от осознания своей правоты к уязвимости
«Кто прав?» Наши мнения по этому вопросу вполне обоснованно расходятся. Например, после событий в Сиэтле многие утверждали, что срыв нового раунда всемирных торговых переговоров в тот момент (до трагедии 9/11), когда мир уделял больше внимания преимуществам открытости, а не ее цене, принес вред тем самым людям, которым протестующие хотели помочь. Как отметил в своем вступительном слове Майкл Мур, в то время генеральный директор ВТО, «возможно, за стенами конференц-центра собрались пятьдесят тысяч человек, но к нам хотят присоединиться полтора миллиона» [75].
«На чем держится наш общественный договор?» – история предыдущего Ренессанса убедительно призывает нас обратить внимание на этот вопрос. Независимо от наших разногласий по первому вопросу, второй вопрос ставит нас перед общей угрозой социальной дезинтеграции, которая может помешать прогрессу и привести к проигрышу всех нас.
Коллапс…
Насколько стабильны достижения общества, если вместе с ними приходят глубокие различия и отчуждение?
Опыт Ренессанса говорит о том, что не очень. Достижения, которых мы добились за последние 30 лет, тоже могут оказаться непостоянными. С другой стороны, у нас есть более продвинутые, чем пятьсот лет назад, политические технологии управления общественным недовольством. Во время Крестьянской войны в Германии погибло более 100 тысяч человек – и после этого мир вернулся лишь на условиях, продиктованных правящими классами [76]. В ходе протестов в 2011–2013 гг., захлестнувших демократические страны, было потеряно мало жизней, однако протестующим удалось добиться институциональных изменений и адаптации риторики управленцев и политики правительства от «строгой экономии» к «сбалансированному восстановлению». «Арабская весна» была более кровопролитной, но она отражала столкновение тектонических сил. Тысячи, возможно, даже десятки тысяч человек погибли с 2010 г. во время конфликтов в Ливии, Ираке, Египте и Йемене [77]. К 2016 г. не менее 250 тысяч жизней было потеряно в Сирии, где боевые действия ввергли общество в полномасштабную гражданскую войну [78].
Протест и сопротивление могут стать положительными силами, которые приведут к заключению более инклюзивного общественного договора. Предстоит выяснить – и мировая общественность, осознавшая собственную силу мобилизации, очень внимательно наблюдает за процессом, – помогут ли реформы, завоеванные социальными движениями на сегодняшний день, создать инклюзивный общий поток, к которому сможет присоединиться больше людей.
…Или трагедия упущенных возможностей?
На наш взгляд, более серьезную угрозу для нас представляет не социальный раскол, но застой. Это особенно верно для демократических стран мира – реальная опасность заключается не в том, что насилие бесповоротно разъединит нас. Мы хорошо умеем справляться с такими потрясениями. Скорее опасность в том, что мы будем топтаться на месте, примиримся с растущим неравенством, расколом общества и потерянными возможностями, а значит, не сможем достичь того, к чему нас приглашает нынешний век.
Упущенные тогда
В краткосрочной перспективе убийство Савонаролы казалось целесообразным решением для устранения той помехи, которую он собой представлял. Раздававшиеся в церкви реформистские голоса после этого смолкли, республиканские тенденции в политике Флоренции стали ослабевать (в 1512 г. Медичи вернулись к власти). Тем не менее, решив дело казнью, церковь отвернулась от возможности всерьез задуматься о том, что Савонарола был не просто одиноким бунтующим клириком – он выражал общие настроения разочарования и подавленности, которые были широко распространены в церкви и в обществе [79].
История до сих пор не решила, кем был Савонарола – героем или злодеем. Кампания Савонаролы и его рьяных последователей по исправлению нравов общества была пронизана фанатизмом и террором. Тем не менее энергия и политический гений этого человека, родившегося в один год с Леонардо да Винчи, не вызывают никакого сомнения. «…О такого рода людях надлежит говорить с почтением»[36], – писал о нем Макиавелли [80]. Савонарола был одним из величайших ораторов своего времени. Он стремился не разрушить общество, а повести его в другом направлении, и в этом действовал как динамичная, модернизирующая сила. Он увидел, какую роль может сыграть печатный станок Гутенберга в мобилизации общественного мнения. Он проталкивал реформы, ослаблявшие власть олигархов (то есть Медичи), и сделал процедуру принятия общественных решений более инклюзивной. «Пусть… основа правительства будет устроена таким образом, чтобы никто не мог занять должность и получить высокое положение иначе, чем волей всего народа» [81]. Он заменил непоследовательный, полный финансовых лазеек налоговый кодекс Флоренции более справедливым фиксированным единым налогом на все доходы от собственности [82]. Он разработал одну из первых европейских программ общественной помощи бедным в виде кредитов с пониженными процентами. Он начал и закончил свою деятельность преданным сторонником общественных идеалов своей церкви. То, что церковь не смогла направить его энергию на собственное обновление и вместо этого уничтожила его, – потеря, достойная сожаления.
Католическая церковь продолжала подавлять таланты с помощью реакционных кампаний, направленных против Реформации, – в 1542 г. была создана римская инквизиция, задачей которой было искоренить ересь в Италии. Представители власти в других государствах, в том числе в Англии, Франции и Нидерландах, учредили аналогичные церковные трибуналы, которые продолжали существование на протяжении всего XVI в. и далее. И хотя их деятельность была не такой смертоносной, как принято изображать (согласно недавним исследованиям, число жертв инквизиции составляло не миллионы, а несколько тысяч человек) [83], инквизиторам удалось задушить множество цветущих творческих ростков.
Чего еще мог бы добиться Савонарола, если бы остался жив? И более сложный вопрос: сколько еще таких же, как он, не посмели заявить о себе и высказать свои идеи, опасаясь разделить его участь? Сколько не смогли оставить свой след в истории из-за апатии, разочарования или страха? Какой могла бы стать история, если бы все они употребили свои таланты для создания общего проекта современности?
Упущенные сейчас
Мы никогда не узнаем ответов на эти вопросы. История не имеет сослагательного наклонения. Но мы можем задать эти вопросы своему собственному времени, чтобы не повторять плачевных ошибок прошлого.
Тогда и сейчас социальные потрясения разрушают новые связи. Тогда и сейчас социальная обособленность тормозит развитие. Тогда и сейчас индивидуальный и коллективный гений уклоняется или препятствует общественным взглядам, в которых для него нет никакого очевидного места. Какими бы могущественными ни казались положительные силы, описанные в этой книге, они представляют собой социальные явления, а значит, мы можем положить им конец.
Опасность стагнации особенно велика в демократических обществах. Демократия – гигантская политическая инновация, которая отделяет наш Новый Ренессанс от предыдущего. Она дает нам огромную приспособляемость к социальным стрессам. Но эта приспособляемость имеет свою цену: ничто великое не может осуществиться, если за ним не стоят люди.
Задумайтесь на минуту о том, чего мы – из-за отсутствия более сильного и глобального чувства принадлежности – не смогли сделать. Очередной раунд всемирных торговых переговоров, который должен был открыть доступ бедным странам на рынки богатых стран, с самого начала был обречен на провал в Сиэтле, затем официально состоялся в Дохе в 2001 г., но до сих пор ничего не согласовал. Вместо того чтобы решать самые большие проблемы торговли на глобальной повестке дня (и не в последнюю очередь порочные сельскохозяйственные субсидии фермерам богатых стран), он распался на мозаику двусторонних и региональных торговых соглашений. Американцы, когда-то главные в мире глашатаи свободной торговли, в настоящее время встают в один ряд с французами и итальянцами, заявляющими, что свободная торговля уничтожает рабочие места и снижает оплату труда [84].
Общеевропейский финансовый союз, появление которого несколько лет назад предсказывали многие видные эксперты, сегодня обречен на провал. Обсуждение расширения политического союза также заглохло. Следующим смелым шагом было бы принять в союз Турцию, которая до Первой мировой войны еще была Османской империей. Присоединение Турции больше, чем включение любой другой страны, расширило бы горизонты Европейского союза за пределы средневековых христианских границ. Вместо этого более чем через десять лет после признания кандидатуры Турции ЕС захлопнул перед ней двери, и обида, вызванная отказом, укрепила националистические настроения в стране. Единая валюта Европы, евро, топчется на месте. Греция, зажатая между немецкими кредиторами, которые отказываются простить ей государственный долг, и греческими гражданами, не желающими работать на выплату этого долга, пережила десятилетие принудительного затягивания поясов и еще может выйти из Еврозоны. Великобритания, которая всегда уклонялась от евро, может полностью отказаться от участия в Европейском союзе, если крайне правые и крайне левые британские политики добьются своего. Десять лет назад это было немыслимо, а в 2016 г. жители Великобритании проголосовали за выход в результате всенародного референдума.
Глобальная миграция людей неразрывно связана с кризисами и трагедиями. Соединенные Штаты колеблются между двумя противоположными вариантами – возвести на границе стену, чтобы сдержать нелегальных иммигрантов, или принять закон, чтобы предоставить им гражданство. Пока в конгрессе нет согласия по этому вопросу, реформа представляется маловероятной. В Евросоюзе, куда в 2015 г. хлынуло рекордное количество беженцев из Сирии, Афганистана и других вовлеченных в конфликт стран, мнения также разделились: одни считают, что долгосрочным решением проблемы станет обязательная для каждого государства – члена ЕС ежегодная квота по приему определенного количества беженцев, другие – что нужно закрыть границы [85].
Пока они спорят, более 4 миллионов беженцев страдают в убогих временных лагерях и городских трущобах Иордании, Ливана и Турции. Еще сотни тысяч, пытаясь обойти лагеря, попадают в руки похитителей-работорговцев или тонут при попытке пересечь Средиземное море на самодельных лодках. Принятая в 1951 г. Конвенция ООН о беженцах, определяющая права беженцев и обязанности других государств по отношению к ним, остро нуждается в реформе. Пока между стабильными, более состоятельными странами нет обновленного общего соглашения о том, как справедливо разделить между собой обязанность помогать людям, сорванным с мест в результате социальных и стихийных бедствий, наша реакция каждый раз будет неполной и недостаточной. А бедствия будут случаться все чаще.
По одному из важнейших мировых вопросов современности, изменению климата, человечеству уже два десятка лет не удается достигнуть общего, всеобъемлющего и эффективного общественного договора, в соответствии с которым можно было бы начать энергичные действия. Киотский протокол 1997 г. – неидеальная, но лучшая из возможных стратегия, согласно которой ряд государств обязался сократить выброс углекислых газов, – закончился тем, что большинство оказались не в состоянии выполнить свои обязательства. В Копенгагене в 2009 г. мировые лидеры решили вообще не связывать себя договором о совместной ответственности. Несколько дерзкая надежда, которая пронизывала атмосферу конференции в Киото, – до 9/11, до всемирного экономического кризиса, когда слово «глобализация» еще было хорошим словом, – сменилась трезвым пониманием того, что собравшиеся мировые лидеры не имеют ни желания, ни народной поддержки, чтобы принести значительные жертвы ради нашего общего будущего.
В последние годы эта поддержка окрепла: экстремальные погодные явления, а также серьезные загрязнения в городах Китая и в других местах вызывают повышенное беспокойство, и общество начало задумываться о том, какие последствия для здоровья имеет экономика, основанная на ископаемом топливе. В результате в 2015 г. появилось Парижское соглашение, по которому более 195 стран добровольно согласились остановить глобальное потепление на уровне «значительно ниже 2 °C». Само по себе соглашение является гигантским достижением: это один из немногих случаев в истории, когда научные данные заставили практически все страны мира прийти к соглашению. Это наглядно доказывает расцветающую силу науки и всемирное понимание проблемы незапланированных последствий прогресса.
Теперь возникает вопрос: будем ли мы его придерживаться? Ключевые государства выступали против придания Соглашению юридической силы. Оно предполагает массовое внедрение более совершенных технологий для сокращения выбросов углекислых газов (несмотря на нехватку инвестиций и испытаний на сегодняшний день) и передачу в развивающиеся страны технологий и крупных денежных средств (которых до сих пор было явно недостаточно). Добровольное исполнение соглашения начинается с 2020 г., а достижение цели «значительно ниже 2 °C» зависит от того, согласятся ли государства взять на себя дополнительные обязательства и сокращать выбросы углекислых газов каждые пять лет после этой даты – тоже на добровольной основе. Заключили мы прекрасный новый общественный договор или снова отшвырнули в сторону нелегкий выбор? Время покажет.
Таковы крупнейшие политические проекты современного мира. За исключением, пожалуй, только Парижского соглашения, осуществление которого еще впереди, у всех них есть один общий недостаток: нашим гражданским организациям не хватает легитимности, а нам, гражданам, не хватает сплоченности, чтобы делать серьезные дела. И сейчас, в эпоху расцвета гения и новых опасностей, потребность в сильной общественной воле и действии – начиная со своего района и дальше – особенно сильна.
Каждое несовершенное действие служит мрачным напоминанием о том, что положительное будущее не наступит просто так. Нам нужно упорно работать, чтобы его достичь.
| <<< Назад Когда основной поток разделяется |
Вперед >>> Часть IV Борьба за будущее |
- От Магеллана до Сарагосского договора
- Проект договора между Людовиком XIV и Алексеем Михайловичем (1668)
- 7 Костры и сопричастность Как нынешнее время дает силу экстремистам и ослабляет объединяющие нас связи
- Русское знамя в Новой Гвинее
- Связь соотношения полов при рождении с условиями среды.
- Татары, башкиры, чуваши, карачаево-балкарцы, крымские татары
- Суперматерик Евразия
- 10.3. Одна в джунглях среди «дьяволов»