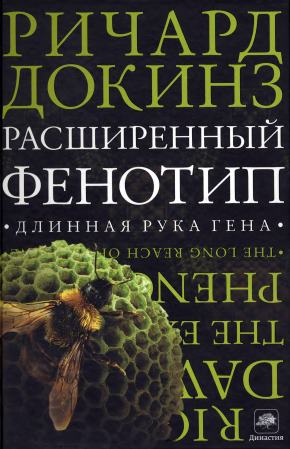Книга: Расширенный Фенотип: длинная рука гена
Глава 12. Гены паразитов — фенотипы хозяев
| <<< Назад Глава 11. Генетическая эволюция артефактов животных |
Вперед >>> Глава 13. Действие на расстоянии |
Глава 12. Гены паразитов — фенотипы хозяев
Давайте кратко подытожим, куда мы добрались в нашем продвижении за привычные границы. Фенотипическая экспрессия гена может простираться за пределы клеток, в которых гены оказывают свое непосредственное влияние на биохимию, и затрагивать макроскопические признаки многоклеточного организма в целом. Это общее место. Фенотипическая экспрессия гена, расширенная до такой степени, — дело для нас, как правило, привычное.
В предыдущей главе мы шагнули чуть-чуть дальше, распространив понятие «фенотип» и на подверженные наследственной изменчивости объекты, созданные благодаря индивидуальному поведению животных, — например, на домики ручейников. Затем мы увидели, что расширенный фенотип может быть создан совместными усилиями генов более чем одного организма. Плотины бобров и термитники возникают благодаря коллективному поведению нескольких или многих особей. Генетическая мутация, возникшая у одного бобра, может проявиться в фенотипическом изменении общей плотины. Если такое фенотипическое изменение артефакта как-то влияет на успех репликации нового гена, то естественный отбор будет изменять, в большую или меньшую сторону, вероятность появления похожих артефактов в дальнейшем. Расширенный фенотипический эффект гена, скажем, увеличение высоты плотины, влияет на шансы его выживания точно так же, как и в случае гена с нормальным фенотипическим эффектом — например, увеличивающего длину хвоста. Тот факт, что плотина является общим результатом строительного поведения нескольких бобров, не меняет самого принципа: гены, заставляющие бобров строить высокие плотины, будут, в среднем, получать выгоды (или нести расходы), связанные с высокими плотинами, пусть даже каждая плотина и сооружается несколькими бобрами сообща. Если у двух работающих вместе бобров гены высоты плотины различаются, то получающийся в итоге расширенный фенотип будет отражать взаимодействие этих генов в точности так же, как взаимодействие генов отражается на организмах. Возможны расширенно-генетические аналоги эпистаза[86], генов-модификаторов и даже доминантности и рецессивности.
И наконец, под занавес, мы выяснили, что гены, «совместно пользующиеся» неким расширенно-фенотипическим признаком, могут принадлежать организмам, относящимся к разным видам и даже к разным типам и царствам. В продолжение этих рассуждений в настоящей главе будут изложены две идеи. Первая состоит в том, что фенотипы, распространяющиеся за пределы организма, это не обязательно неодушевленные артефакты — они сами могут быть построены из живой ткани. Суть второй мысли следующая: везде, где генетическое влияние на расширенный фенотип является «обобществленным», совместные влияния могут вступать в конфликт, а не сотрудничать. Рассмотрим мы все это на примере отношений паразитов и их хозяев. Я собираюсь показать, что с точки зрения логики целесообразно говорить о фенотипической экспрессии генов паразитов в организмах хозяев и в их поведении.
Личинка ручейника передвигается, находясь внутри построенного ею домика. Поэтому представляется уместным рассматривать домик как наружную стенку организма — обшивку машины выживания. Рассматривать раковину улитки как часть фенотипической экспрессии генов улитки и того проще, поскольку, хотя раковина неорганическая и «неживая», образующее ее вещество секретируется непосредственно улиточьими клетками. Если у улиток существуют гены, влияющие на толщину раковины, то, значит, изменчивость по этому признаку можно считать наследственной. В противном случае ее будут называть «связанной со средой». Однако есть данные, что у улиток, на которых паразитируют сосальщики, раковина толще, чем у незараженных улиток (Cheng, 1973). С точки зрения генетиков улитки этот аспект изменчивости раковины находится под контролем «окружающей среды», частью которой является и двуустка, но с точки зрения генетиков двуустки он вполне может находиться под контролем генов — ведь не исключено, что это приспособление червя, возникшее в ходе эволюции. Правда, возможно и то, что утолщение раковины — патологическая реакция улитки, неинтересный побочный продукт заболевания. Но позвольте мне рассмотреть версию насчет адаптации двуустки, поскольку эта интересная мысль пригодится нам в дальнейшем обсуждении.
Если мы считаем, что изменчивость в строении раковины отчасти связана с фенотипической экспрессией генов улитки, то мы можем признать некоторую толщину раковины оптимальной в том смысле, что отбор будет штрафовать как те улиточьи гены, которые делают раковину слишком толстой, так и те, что делают ее слишком тонкой. Тонкие раковины не обеспечивают достаточной защиты. Поэтому гены слишком тонкой раковины подвергают опасности свои находящиеся в клетках зародышевой линии копии, которым, соответственно, не будет благоприятствовать естественный отбор. Слишком толстые раковины по идее превосходно защищают своих улиток (и находящиеся в их половых клетках гены повышенной толщины раковины), но дополнительные расходы, связанные с изготовлением сверхпрочной брони, понижают успешность улитки каким-то иным образом. С точки зрения экономики организма ресурсы, уходящие на изготовление дополнительного материала для раковины и на ношение дополнительной тяжести, лучше было бы направить, скажем, на увеличение гонад. Следовательно, если продолжать наш гипотетический пример, то гены, обеспечивающие слишком толстую раковину, будут склонны компенсировать это преимущество каким-то уроном для организма — например, относительно малым размером гонад — и потому будут передаваться следующему поколению не столь эффективно. Даже если никакой корреляции между толщиной раковины и величиной гонад на самом деле не существует, то непременно должна существовать какая-то другая аналогичная корреляция, и компромиссным решением будет раковина промежуточной толщины. Гены, стремящиеся сделать раковину слишком тонкой или слишком толстой, в генофонде улиток не преуспеют.
Но вся эта аргументация основана на допущении, что единственные гены, влияющие на изменчивость в толщине улиточьей раковины, — это гены улитки. А что, если некоторые из причинных факторов, которые с точки зрения улитки являются, по определению, факторами среды, с какой-то другой точки зрения — скажем, с точки зрения двуустки — окажутся генетическими факторами? Допустим, мы согласны со сделанным выше предположением, что какие-то гены двуустки способны, воздействуя на физиологию улитки, оказывать влияние на толщину ее раковины. Если же от толщины раковины зависит репликативный успех этих генов, то естественный отбор обязательно будет изменять их относительную частоту в генофонде двуустки. Значит, мы вправе считать, что изменения толщины улиточьей раковины — это, возможно, хотя бы отчасти приспособления, полезные для генов сосальщика.
Маловероятно, чтобы оптимальная толщина раковины с точки зрения генов двуустки была той же самой, что и с точки зрения генов улитки. К примеру, гены улитки будут отбираться благодаря своему полезному действию, оказываемому как на размножение, так и на выживание улитки, однако если не принимать в расчет особые условия, о которых нам еще предстоит поговорить, то гены двуустки могут высоко ценить выживание улитки, но при этом ни в грош не ставить ее размножение. В неизбежных противоречиях между нуждами выживания и размножения улиток отбор будет благоприятствовать тем улиточьим генам, которые обеспечивают наилучший компромисс, в то время как гены двуустки будут отбираться по способности занижать ценность размножения улитки в пользу ее выживания и, следовательно, утолщать раковину. Напомню, что утолщение раковины у зараженных паразитами улиток — это наблюдавшееся явление, с которого мы начали разговор.
Тут могут возразить, что хотя двуустка и не делает непосредственную ставку на размножение своего собственного хозяина, она определенно заинтересована в появлении нового поколения улиток вообще. Это правда, но мы должны быть крайне осторожными прежде чем на основе данного факта предсказывать, что отбор будет благоприятствовать адаптациям двуусток, способствующим размножению улиток. Нужно задаться следующим вопросом. При условии, что в генофонде двуусток преобладают гены, помогающие улиткам размножаться, а не выживать, станет ли отбор благоприятствовать такому эгоистичному гену двуустки, который для продления жизни своего хозяина, а значит, и для содействия собственному выживанию и размножению, принесет в жертву интересы размножения отдельно взятой улитки, даже полностью ее кастрирует? Если не рассматривать некие особо оговоренные условия, то ответ будет однозначно положительный: такой редкий ген распространится в генофонде двуустки благодаря попустительству граждански ответственного большинства двуусток, которое будет бесплатно поставлять свежих улиток. Говоря иначе, способствование размножению улиток за счет их выживания не будет для двуусток ЭСС. Гены двуустки, которым удастся перенаправить улиточьи ресурсы от размножения к выживанию, будут стремиться к распространению в генофонде. Поэтому предположение, что утолщение раковины, наблюдаемое у зараженных улиток, — это приспособление двуустки, является вполне правдоподобным.
Согласно этой гипотезе фенотип раковины является общим: на него влияют как гены улитки, так и гены двуустки, точно так же как и плотина бобра представляет собой совместный фенотип не одной особи. В соответствии с нашими предположениями, у раковины должны быть две оптимальные толщины: большая для двуустки и несколько меньшая для улитки. Возможно, толщина раковины, наблюдаемая у зараженных паразитами улиток, находится где-то между этими двумя оптимумами, так как и гены улитки, и гены двуустки имеют возможность оказывать действие и оказывают его в противоположных направлениях.
Что же касается неинфицированных улиток, то можно ожидать, что их раковины будут оптимальной для улиток толщины, поскольку гены двуусток на них не влияют. Однако это слишком сильное упрощение. Если в популяции частота случаев заражения двуустками высока, то в генофонде, вероятно, будут содержаться гены, которые компенсируют утолщающее раковину воздействие генов паразита. Это должно привести к тому, что у здоровых улиток будет сверхкомпенсированный фенотип — раковины даже более тонкие, чем улиточий оптимум. Исходя из этого, я прогнозирую, что в областях, где нет двуусток, значения толщины улиточьей раковины должны быть меньше, чем у улиток, зараженных двуустками, и больше, чем у здоровых улиток, живущих в тех областях, где двуустки не редкость. Мне не известны какие-либо факты, касающиеся моего прогноза, но было бы интересно на них взглянуть. Заметьте, что для такого прогноза не требуются никакие гипотезы ad hoc насчет того, кто — улитки или двуустки — «побеждает». Он основывается на допущении, что гены обоих видов оказывают какое-то влияние на фенотип улитки, логически выводится независимо от конкретных количественных значений этого влияния.
Двуустки живут внутри улиточьих раковин примерно в том же самом смысле, в каком улитки живут в улиточьих раковинах, а личинки ручейников — в своих каменных домиках. Согласившись с тем, что форма и цвет домика ручейника могут быть частью фенотипической экспрессии генов ручейника, нетрудно и принять идею, что форма и цвет раковины улитки — это фенотипическая экспрессия генов двуустки, находящейся внутри улитки. Если бы мы в качестве причудливой фантазии позволили себе вообразить, как ген двуустки и ген улитки деловито обсуждают с геном ручейника проблемы постройки прочной защитной стенки, то я не думаю, что в этой беседе был бы вообще упомянут тот факт, что двуустка паразит, а улитка и ручейник — нет. Говорилось бы о достоинствах секреции карбоната кальция, рекомендуемой генами двуустки и улитки, и о подборе камешков, предпочитаемом геном ручейника. Возможно, было бы сказано несколько слов о том, как удобно и экономично секретировать карбонат кальция при помощи улитки. Но я подозреваю, что с точки зрения генов понятие «паразитизм» было бы сочтено излишним. Все три гена могли бы рассматривать себя как паразитов или с таким же успехом говорить о том, что они используют сопоставимые друг с другом рычаги влияния на свой мир, чтобы выжить. И для гена улитки, и для гена двуустки живые клетки улитки будут полезными манипулируемыми объектами внешнего мира — абсолютно точно так же, как и камешки, лежащие на речном дне, для гена ручейника.
О неорганических улиточьих раковинах я говорил, чтобы сохранить преемственность с домиками личинок ручейников и другими неживыми объектами из предыдущей главы, оставаясь, таким образом, верным своей политике постепенного, незаметного расширения понятия «фенотип», цель которой — не спугнуть доверие читателей. Но теперь пришло время взять за рога саму улитку. Двуустки из рода Leucochloridium проникают в рожки улиток — сквозь кожу можно видеть, как они там характерным образом пульсируют. Это провоцирует птиц, являющихся следующим хозяином в жизненном цикле двуустки, на то, чтобы отрывать и съедать пораженные щупальца, принимая их, по мнению Уиклера, за насекомых (Wickler, 1968). Любопытно то, что, по всей видимости, двуустки также манипулируют и поведением улиток. Связано ли это с тем, что у улиток глаза находятся на концах щупалец, или же тут задействованы какие-то менее прямые физиологические механизмы, но так или иначе двуустке удается изменить отношение улитки к свету. Являющийся нормой отрицательный фототаксис уступает у зараженных особей место стремлению попасть на свет. Это выводит их на открытые места, где, предположительно, они с большей вероятностью могут стать добычей птиц, что выгодно для двуустки.
Вот опять-таки, если считать это приспособлением паразита, что общепринято (Wickler, 1968; Holmes & Bethel, 1972), то мы вынуждены признать, что в генофонде двуустки когда-то существовали гены, влияющие на поведение хозяев — ведь любые дарвиновские адаптации возникают благодаря отбору генов. Такие гены по определению были «генами поведения улитки», а поведение улитки следует рассматривать как часть фенотипической экспрессии генов двуустки.
Получается, что гены в клетках одного организма могут оказывать расширенное фенотипическое воздействие на другие живые организмы — в данном случае гены паразита фенотипически проявляются в поведении хозяина. Литература по паразитологии изобилует интересными фактами, объяснять которые тем, что паразиты манипулируют хозяевами, стало теперь обычным делом (например, Holmes &: Bethel, 1972; Love, 1980). Но давать подобные толкования открытым текстом было принято уж точно не всегда. Например, ценнейший обзор о кастрации ракообразных их паразитами (Reinhard, 1956) битком набит подробными фактическими данными и рассуждениями на тему точных физиологических механизмов, с помощью которых паразиты кастрируют своих хозяев, но при этом практически не касается вопроса, почему отбор мог благоприятствовать такой кастрации и не является ли она просто случайным побочным продуктом деятельности паразита. Интересным показателем изменения научной моды можно считать то, что в более недавнем обзоре (Baudoin, 1975) функциональное значение паразитарной кастрации для паразита было рассмотрено со всех сторон. Бодуэн завершает свою работу такими словами: «Основные положения этой статьи следующие:
(1) паразитарную кастрацию можно считать приспособлением паразита и
(2) преимущества, связанные с этим приспособлением, — результат подавления репродуктивной деятельности хозяина, что, в свою очередь, увеличивает продолжительность жизни последнего, а также интенсивность его роста и/или количество энергии, доступной для паразита, дарвиновская приспособленность которого таким образом возрастает». Конечно же, это во многом те же самые выводы, к каким я только что пришел, обсуждая вызванное паразитами утолщение раковины у улиток. Повторюсь, что мнение, будто паразитарная кастрация — это адаптация паразита, логически подразумевает, что у паразита должны быть или по крайней мере должны были быть «гены изменения физиологии хозяина». Симптомы паразитарной кастрации — смену пола, увеличение размера или какие они там есть — совершенно справедливо рассматривать как расширенные фенотипические проявления генов паразита.
Альтернатива мнению Бодуэна — считать, что изменения в физиологии и поведении хозяина это не адаптации паразита, а просто неинтересные побочные симптомы заболевания. Рассмотрим паразитического усоногого рака (правда, во взрослом состоянии больше похожего на гриб) Sacculina. Можно было бы сказать, что Sacculina не получает непосредственной выгоды от кастрации своего хозяина — краба, а просто высасывает питательные вещества из всего его тела, и, как побочный продукт разрушения ткани гонад, у краба появляются признаки кастрированности. Однако в поддержку гипотезы об адаптациях Бодуэн указывает на те случаи, когда паразиты осуществляют кастрацию при помощи синтеза гормонов хозяина, — это уж точно специальное приспособление, а не скучный побочный симптом. Я подозреваю, что даже в тех случаях, когда кастрация изначально являлась побочным эффектом пожирания ткани гонад, впоследствии отбор должен был воздействовать на паразитов, модифицируя детали их влияния на физиологию хозяев наилучшим для благоденствия паразита образом. Вероятно, Sacculina может начать внедрение своей «корневой системы» в организм краба с различных органов. Наверняка естественный отбор будет благоприятствовать таким генам Sacculina, которые способствуют тому, чтобы проникать в ткань гонад прежде, чем поражать органы, необходимые для выживания краба. Если же применять этот ход рассуждений к частностям, вполне разумно будет предположить, что поскольку повреждение гонад оказывает многообразное и сложное воздействие на физиологию, анатомию и поведение краба, то отбор отладит паразитам их технику кастрации таким образом, чтобы они могли извлечь максимальную выгоду из ее — изначально случайных — последствий. Думаю, многие современные паразитологи согласятся с этим мнением (Р. О. Lawrence, личное сообщение). Я здесь добавляю от себя только тот логический вывод, что общепринятый взгляд на паразитарную кастрацию как на приспособление подразумевает, что измененный фенотип хозяина — это в какой-то мере и расширенный фенотип генов паразита.
Паразиты часто вызывают у своих хозяев задержку роста, и в этом нетрудно увидеть заурядное побочное следствие заболевания. Поэтому интереснее те более редкие случаи, когда паразиты усиливают рост хозяина — я уже приводил пример с утолщением раковины у улиток. Ченг начинает свое объяснение подобных случаев следующей показательной фразой: «Хотя обычно паразиты считаются вредными для своих хозяев, так как приводят к энергетическим потерям и ослаблению здоровья, известны и примеры, когда присутствие паразитов даже усиливает рост хозяина» (Cheng, 1973, р.22). Но здесь Ченг рассуждает скорее как врач, а не как биолог-дарвинист. Если измерять «вредность» в показателях репродуктивного успеха, а не выживаемости и «здоровья», то усиленный рост запросто может быть вреден для хозяина по причинам, уже изложенным мною в обсуждении улиточьих раковин. Скорее всего, естественный отбор благоприятствовал оптимальным размерам хозяина, и если паразит вызывает отклонение от этого оптимума в любом направлении, то это, вероятно, наносит ущерб репродуктивному успеху хозяина, пусть даже и способствуя его выживанию. Все приводимые Ченгом примеры усиления роста легко могут быть истолкованы как вызванное паразитом перенаправление ресурсов хозяина от размножения, не представляющего для паразита никакого интереса, на рост и выживание собственного тела, в чем паразит крайне заинтересован (тут снова следует остерегаться возражения групповых селекционистов, что появление нового поколения хозяев важно для всего паразитического вида).
Мыши, зараженные личинками ленточного червя Spirometra mansanoides, растут быстрее, чем незараженные мыши. Было показано, что лентецы добиваются этого, секретируя вещество, напоминающее мышиный гормон роста. Или более яркий пример: личинки жуков из рода Tribolium, будучи инфицированы споровиком Nosema, как правило, не могут вступить в метаморфоз. Вместо этого они претерпевают целых шесть дополнительных личиночных линек, вырастая в личинок-гигантов, весящих в два с лишним раза больше, чем незараженные контрольные особи. Факты свидетельствуют о том, что такую глобальную переоценку ценностей, в ущерб размножению и в пользу индивидуального роста, жуки проводят под влиянием ювенильного гормона или его близкого аналога, синтезируемого паразитическим простейшим. Это опять-таки представляет интерес, поскольку — как уже говорилось, когда речь шла о паразитарной кастрации у ракообразных, — делает несостоятельным предположение о случайном побочном эффекте. Ювенильные гормоны — это специфические молекулы, обычно синтезируемые насекомыми, а не простейшими. Синтез гормона насекомого паразитическим простейшим следует рассматривать как специализированное и довольно искусное приспособление. Эволюция способности Nosema производить ювенильный гормон должна была идти посредством отбора генов в генофонде Nosema. Фенотипический эффект этих генов, обеспечивший им выживание в генофонде Nosema, был расширенным фенотипическим эффектом, проявлявшимся в организмах жуков.
И вот в который раз, причем в острой форме, встает проблема противоречий между интересами особи и группы. Простейшии организм настолько мал по сравнению с личинкои жука, что одному ему никогда не набрать дозы гормона, достаточной, чтобы воздействовать на хозяина. Производство гормона требует совместных усилий большого числа отдельных простейших. Оно приносит выгоду всем особям паразита, находящимся в жуке, но при этом и сопряжено с расходами, так как требует, чтобы каждый вносил свою крохотную лепту в общую химическую деятельность. Давайте посмотрим, что было бы, если бы эти отдельные простейшие были генетически неоднородными. Допустим, большинство одноклеточных сообща синтезирует гормон. Особь с редким геном, позволяющим ей уклониться от общего дела, не будет расходоваться на этот синтез.
Такая экономия принесет немедленную выгоду и организму, и эгоистичному гену, заставившему его отлынивать. Недостача, вызванная появлением организма-лентяя, нанесет одинаковый ущерб как ему, так и его соперникам. И в любом случае этот ущерб будет незначительным для продуктивности группы, а вот организм может существенно сэкономить. Таким образом, если не оговаривать какие-то особые условия, то участие в синтезе гормона совместно со своими генетическими соперниками не будет эволюционно стабильной стратегией. Следовательно, мы можем прогнозировать, что все представители Nosema внутри отдельно взятого жука будут близкими родственниками — возможно, идентичным клоном. Мне не попадались данные по этому конкретному случаю, но такой прогноз вполне согласуется с типичным жизненным циклом споровиков.
Бодуэн справедливо подчеркивает ту же самую мысль, говоря о паразитарной кастрации. В его работе есть раздел, озаглавленный «Родство кастрирующих паразитов внутри одного хозяина», где он пишет: «Паразитарная кастрация практически всегда осуществляется либо одиночными паразитами, либо их непосредственным потомством… обычно паразитарная кастрация производится одним генотипом или генотипами с очень высокой степенью родства. Заражение улиток метацеркариями — исключение…
Однако в этом случае паразитарная кастрация, возможно, случайна». Бодуэн полностью осознает значение этих фактов: «… генетическое родство кастрирующих паразитов, находящихся внутри одного хозяина, таково, что наблюдаемые эффекты можно считать результатом естественного отбора на уровне индивидуальных генотипов».
Можно привести много захватывающих примеров того, как паразиты манипулируют хозяевами. Для личинки волосатика, которой необходимо покинуть насекомое, своего хозяина, и попасть в воду, где живут взрослые особи, «… главная трудность всей жизни — это возвращение в воду. В связи с этим особенно интересно, что паразит, по-видимому, воздействует на поведение хозяина и „подстрекает“ его вернуться к воде. Механизм неясен, но имеется достаточное количество независимых сообщений, подтверждающих, что этот паразит действительно оказывает на хозяина влияние, нередко провоцируя его на самоубийство… В одном из наиболее драматичных описаний рассказывается, как зараженная пчела перелетала через водоем и, находясь на высоте около шести футов, резко спикировала в воду. От столкновения с водой волосатик сразу же вырвался на волю и уплыл, оставив изувеченную пчелу погибать» (Croll, 1966).
Те паразиты, у кого в жизненном цикле есть промежуточный хозяин, от которого они должны перебираться к окончательному хозяину, часто манипулируют поведением промежуточного хозяина так, чтобы увеличить вероятность того, что его съест окончательный хозяин. Мы уже сталкивались с этим, когда говорили про Leucochloridium в щупальцах улиток. Холмс и Бетл рассмотрели много подобных примеров (Holmes & Bethel, 1972), а одно из наиболее тщательных исследований этого явления провели сами (Bethel & Holmes, 1973). Они изучали два вида скребней, Polymorphus paradoxus и P. marilis. Оба эти вида в качестве промежуточного хозяина используют пресноводную «креветку» (на самом деле рачка-бокоплава) Gammarus lacustris, а уток — в качестве окончательного хозяина. Однако P. paradoxus специализируется на крякве, которая процеживает верхние слои воды, а P. marilis — на нырках. Следовательно, в идеале Р. paradoxus было бы выгодно заставить своих рачков плыть наверх, чтобы они стали легкой добычей для кряквы, а для Р marilis лучше было бы отбить им охоту всплывать к поверхности.
Незараженные особи Gammarus lacustris стараются избегать света и держатся поближе к дну озера. В поведении бокоплавов, зараженных цистакантами Р paradoxus, Бетл и Холмс обнаружили существенные отличия. Рачки оставались у поверхности, крепко цепляясь там за растительность и даже за волосы на ногах у исследователей. По-видимому, такое поведение делает их более уязвимыми для процеживающих воду крякв, а также для ондатр, являющихся альтернативным окончательным хозяином Р paradoxus. Бетл и Холмс полагают, что привычка цепляться за траву особенно повышает вероятность поедания бокоплавов ондатрами, которые питаются плавучей растительностью, собирая ее и притаскивая к себе в жилище.
Лабораторные исследования подтвердили, что рачки, зараженные цистакантами Р paradoxus, стремились попасть в освещенную часть резервуара и определенно старались приблизиться к источнику света. Незараженные особи вели себя прямо противоположным образом. Кстати говоря, это не связано с тем, что зараженные бокоплавы были просто больны и пассивно всплывали к поверхности, подобно тому как это было показано Крауденом и Брумом в похожем исследовании на рыбах (Crowden & Broom, 1980). Бокоплавы активно питались, часто покидая для этого поверхностный слой, но захватив кусочек еды, сразу же возвращались к водной поверхности и съедали его там, тогда как здоровый рачок утащил бы его ко дну. А будучи напуганными в момент нахождения на средней глубине, они устремлялись вверх, вместо того чтобы уходить поглубже, как поступил бы нормальный рачок.
Как бы то ни было, особи, зараженные цистакантами другого вида, Р marilis, у поверхности не держались. Правда, в лабораторных условиях они предпочитали находиться в освещенной, а не в темной части аквариума, но при этом не стремились по направлению к источнику света: в пределах освещенной половины они распределялись случайным образом, не скапливаясь у поверхности. Будучи напуганы, они чаще уходили на дно, чем всплывали. Бетл и Холмс предполагают, что оба паразитических вида по-разному трансформируют поведение своего промежуточного хозяина в расчете на то, чтобы сделать его более уязвимой жертвой для хозяев окончательных — либо для цедильщиков, либо для ныряльщиков.
Более поздняя статья (Bethel & Holmes, 1977) отчасти подтверждает эту гипотезу. Содержавшиеся в лабораторных условиях кряквы и ондатры захватывали рачков, зараженных P. paradoxus, с большей частотой, нежели неинфицированных рачков. Однако ни кряквы, ни ондатры не захватывали особей, зараженных Р marilis, хоть сколько-нибудь чаще, чем здоровых бокоплавов. Очевидно, что желательно было бы провести и обратный эксперимент с видами-нырялыциками, исходя из гипотезы, что в этом случае относительно большей опасности будут подвергаться рачки, зараженные цистакантами Р marilis. Такой опыт, по-видимому, проведен не был.
Давайте пока что согласимся с предположением Бетла и Холмса и сформулируем его на языке расширенного фенотипа. Измененное поведение бокоплава рассматривается как приспособление его паразита-скребня. Если оно возникло путем естественного отбора, то должна была существовать изменчивость «генов поведения бокоплава» в генофонде червя, в противном случае естественному отбору не на что было бы воздействовать. Следовательно, мы вправе говорить о том, что гены червей проявляют свою фенотипическую экспрессию в организмах рачков ровно в том же самом смысле, в каком мы уже привыкли говорить о человеческих генах, проявляющих свою фенотипическую экспрессию в организме человека Двуустка Dicrocoelium dendriticum («мозговой червь») часто упоминается в качестве еще одного элегантного примера того, как паразит может манипулировать промежуточным хозяином, чтобы повысить свои шансы попасть в окончательного (Wickler, 1976; Love, 1980). Окончательный хозяин — это в данном случае копытное, например овца, а промежуточные хозяева — сначала улитка, затем муравей. Нормальный жизненный цикл паразита требует, чтобы муравей был случайно съеден овцой. По всей видимости, церкария двуустки достигает этого способом, аналогичным тому, как действует упоминавшийся выше Leucochloridium. Проникая в подглоточный ганглий, этот червь, метко названный мозговым, изменяет поведение муравья. Обычно, когда становится холодно, незаряженный муравей возвращается в свое гнездо, но инфицированные муравьи забираются вместо этого на самые верхушки травинок, стискивают их своими челюстями и перестают двигаться, как бы засыпая. Здесь они подвергают себя риску быть съеденными окончательным хозяином червя. Зараженный муравей, подобно здоровому, обязательно спускается с травяного стебля, чтобы не погибнуть от полуденной жары (это было бы плохо и для паразита), но с приходом вечерней прохлады вновь подвешивает себя над землей (Love, 1980). Уиклер пишет, что при заражении в муравья попадает около пятидесяти церкарий, лишь одна из которых проникает к нему в мозг, погибая при этом: «Она приносит себя в жертву ради блага других церкарий» (Wickler, 1976). В связи с этим Уиклер ожидаемо предрекает, что группа церкарий внутри одного муравья должна оказаться полиэмбриональным клоном.
Даже еще более изощренным примером является корончатый галл — одно из немногочисленных известных раковых заболеваний растений (Kerr, 1978; Schell et al, 1979). Вызывает его, что необычно для рака, бактерия, а именно Agrobacterium. Эти бактерии могут вызывать у растения рак, только если в них содержится Ti-плазмида, маленькое колечко внехромосомной ДНК. Ti-плазмиду можно считать автономным репликатором (глава 9), хотя, как и любая другая ДНК, она не может размножаться отдельно от клеточных механизмов, сборка которых осуществляется под действием других ДНК-репликаторов, в данном случае генов хозяина.
Гены Ti-плазмиды передаются от бактериальных клеток к растительным, побуждая те к неконтролируемому делению, отчего это состояние и называют раковым. Также Ti-гены заставляют растительные клетки синтезировать в больших количествах так называемые опины — вещества, которые растение в норме не производит и использовать которые не может. Интересно здесь то, что в среде, богатой опинами, бактерии, инфицированные Ti-плазмидой, выживают и размножаются намного лучше, чем бактерии без Ti-плазмиды. Это происходит потому, что Ti-плазмида обеспечивает бактерию набором генов, позволяющих использовать опины в качестве источника вещества и энергии. Здесь почти что можно говорить о том, что Ti-плазмиды занимаются искусственным отбором, благоприятствуя инфицированным бактериям, а значит, и своим собственным копиям. Также опины действуют, по выражению Керра, как «бактериальные афродизиаки», стимулируя конъюгацию бактерий, а следовательно, и перенос плазмиды.
Керр приходит к следующему заключению: «Это чрезвычайно изящный пример биологической эволюции: бактериальные гены здесь даже проявляют явный альтруизм… У ДНК, передаваемой растению от бактерии, нет будущего — она погибнет вместе с растительной клеткой. Однако, трансформируя растительную клетку и заставляя ее синтезировать опины, она обеспечивает (а) преимущества при отборе для точно такой же ДНК в бактериальных клетках и (б) перенос этой ДНК в другие бактерии. Это пример эволюции на уровне генов, а не организмов, которые являются, возможно, не более чем носителями генов» (Kerr, 1978). (Конечно же, подобные заявления звучат для меня, как музыка, но, я надеюсь, Керр простит мне, если я публично выражу удивление беспричинной осторожностью его фразы «возможно, не более чем». Это немножко походит на высказывания вроде «Глаза — это, возможно, зеркало души» или «Я, возможно, помню чудное мгновенье». Возможно, тут постарался редактор?!) Керр продолжает: «На многих (хотя и не на всех) растениях-хозяевах внутри возникающих естественным путем корончатых галлов выживает очень мало бактерий… На первый взгляд может показаться, что патогенность не дает никакого биологического преимущества. Но стоит лишь принять в расчет производство опинов хозяином, и влияние, оказываемое им на бактерии, живущие на поверхности галла, как мощное селективное преимущество генов болезне-творности сразу же становится очевидным».
Майр обсуждает тот факт, что растения образуют галлы и тем самым предоставляют убежище насекомым, в терминах, настолько подходящих к моей идее, что я могу процитировать его дословно и практически без комментариев:
Почему… растение должно делать галл таким превосходным жилищем для насекомого, являющегося его врагом? На самом деле мы тут имеем дело с двумя различными давлениями отбора. С одной стороны, отбор воздействует на популяцию орехотворок и благоприятствует тем из них, чьи вещества, стимулирующие образование галла, обеспечивают их личинкам наилучшую защиту. Ясно, что для насекомого-галлообразователя это вопрос жизни и смерти, и потому давление отбора здесь возникает очень мощное. Противостоящее давление отбора, воздействующего на растение, будет в большинстве случаев довольно слабым, поскольку наличие нескольких галлов понизит жизнеспособность растения-хозяина лишь незначительно. Так что «компромиссное решение» будет целиком в пользу галлообразователя. Чрезмерное повышение численности орехотворок обычно сдерживается зависящими от плотности популяции факторами, не связанными с растением-хозяином (Mayr, 1963, р. 196— 19/).
Здесь Майр для объяснения того, почему растение не дает сдачи в ответ на удивительные манипуляции насекомого, использовал нечто эквивалентное принципу «жизнь/обед». Я считаю необходимым добавить только одно. Если Майр прав и галл — это адаптация, выгодная насекомому, а не растению, тогда эволюция такой адаптации могла происходить только благодаря естественному отбору генов в генофонде насекомого. Если рассуждать логически, то мы должны считать эти гены фенотипически экспрессирующимися в ткани растения в том же самом смысле, в каком некоторые другие гены насекомого — скажем, ген цвета глаз — фенотипически экспрессируются в тканях насекомого.
Коллеги, с которыми я обсуждаю теорию расширенного фенотипа, зачастую приходят к одним и тем же занимательным предположениям. Случайно ли то, что, простудившись, мы чихаем или же это вирусы манипулируют нами, чтобы повысить свои шансы попасть в другого хозяина? Не усиливают ли какие-нибудь венерические заболевания половое влечение — хотя бы только за счет вызывания зуда, как экстракт шпанской мушки? Увеличивают ли поведенческие симптомы бешенства вероятность дальнейшей передачи вируса (Bacon &: Macdonald, 1980)? «Когда собака заражается бешенством, ее характер быстро меняется. В первые день-два она часто становится более ласковой и склонна лизать людей, с которыми общается, а это опасно, так как у нее в слюне уже содержится вирус. Вскоре в ней нарастает беспокойство, и она блуждает далеко от дома, готовая укусить каждого, кто попадется ей на пути» (Британская энциклопедия, 1977). Вирус бешенства делает злыми и кусачими даже нехищных животных: зафиксированы случаи заражения людей через укусы обычно безобидных крыланов. Очевидно, что укусы хорошо способствуют передаче содержащегося в слюне вируса, но помимо этого его эффективному распространению могло бы превосходно содействовать и «беспокойное блуждание» (Hamilton &: May, 1977). Очевидно и то, что дешевые и общедоступные услуги авиакомпаний самым существенным образом повлияли на распространение заболеваний человека. Вправе ли мы задаться вопросом, а не может ли выражение «он болен путешествиями» иметь не только переносное значение?
Вероятно, читателю, так же, как и мне, такие спекуляции покажутся надуманными. Это всего лишь забавные примеры явлений, сходные с которыми могут иметь место в действительности (см. также работу Ewald, 1980, где обращается внимание на значение такого образа мыслей для медицины). Все, что мне требуется, это установить, что в некоторых случаях симптомы хозяина справедливо рассматривать как приспособление паразита — скажем, синдром Питера Пэна, вызванный у Triholium синтезированным простейшими ювенильным гормоном. Если признать это приспособлением паразита, то вывод, который я собираюсь сделать, фактически неоспорим. Если поведение или физиология хозяина — это адаптация паразита, то у паразита должны быть (или должны были быть) «гены модификации хозяина», а происходящие с хозяином изменения являются, следовательно, частью фенотипической экспрессии этих генов паразита. Расширенный фенотип генов выходит за пределы организма, в клетках которого данные гены находятся, и дотягивается до живых тканей других организмов.
Взаимосвязь между геном морской уточки Sacculina и телом краба принципиально не отличается от взаимосвязи между геном ручейника и камешком, а также на самом деле и от взаимосвязи между геном человека и кожей человека. Это первое из тех утверждений, которые я намеревался обосновать в данной главе. У него есть следствие, на которое я в несколько иных выражениях уже указывал в главе 4: поведение особи не всегда можно интерпретировать как направленное на то, чтобы максимизировать ее генетическое благополучие; особь может трудиться на благо генов кого-то другого, в данном случае — сидящего в ней паразита. В следующей главе мы пойдем дальше и увидим, что некоторые признаки индивидуумов можно рассматривать как проявления фенотипической экспрессии генов других индивидуумов, которым для этого не обязательно быть паразитами и находиться внутри.
Второе положение настоящей главы состоит в том, что гены, влияющие на какой-либо отдельно взятый фенотипический признак, могут быть в конфликте, а не в согласии друг с другом. Я мог бы обсудить это на любом из вышеприведенных примеров, но остановлюсь лишь на одном из них — продолжу разбирать случай с утолщением улиточьей раковины под влиянием двуустки. Изложу эту историю еще раз немного другими словами. И генетик улитки, и генетик двуустки оба могли бы изучать одну и ту же фенотипическую изменчивость — изменчивость толщины улиточьей раковины. Генетик улитки мог бы определить вклад генетической составляющей и факторов среды в эту изменчивость, сопоставляя толщину раковин у улиток-родителей и их потомства. Независимо от него и генетик двуустки мог бы оценить вклад генетической компоненты и факторов среды в ту же самую наблюдаемую изменчивость, — только он бы сопоставлял толщину раковин улиток, содержащих определенных двуусток, и толщину раковин улиток, содержащих потомство этих двуусток. С точки зрения «генетика улитки» влияние двуустки будет частью того, что он считает «модификационной изменчивостью». А для «генетика двуустки», наоборот, изменчивость, связанная с воздействием улиточьих генов, будет изменчивостью «под влиянием внешних условий».
«Расширенный генетик» учел бы оба источника наследственной изменчивости. Ему пришлось бы озадачиться насчет формы их взаимодействия. Какое оно: кумулятивное, мультипликативное, «эпистатическое» и т. д.? Но, в сущности, проблемы такого рода хорошо знакомы как генетику улитки, так и генетику двуустки. В рамках любого организма на один и тот же фенотипический признак влияют разные гены, и форма, в которой осуществляется это взаимодействие в случае генов обычного генома, является вопросом в той же мере, что и при «расширенном геноме». Взаимодействие влияний гена улитки и гена двуустки в принципе ничем не отличается от взаимодействия влияний гена улитки и другого гена улитки.
Но все же, могут нас спросить, нет ли здесь существенного отличия? Взаимодействие гена улитки с другим геном улитки может быть кумулятивным, мультипликативным или любым другим, но разве сокровенные интересы двух этих генов не совпадают? Оба были отобраны в прошлом за то, что трудились ради одной и той же цели — выживания и размножения улиток, в которых они находились. Ген двуустки и другой ген двуустки тоже стремятся к одному и тому же — к успешному размножению своей двуустки. Однако заветные стремления гена улитки и гена двуустки не совпадают: один отбирается за содействие размножению улитки, другой — за содействие размножению двуустки.
В этих возражениях есть правда, но важно четко понимать, где именно она пролегает. Нет никакого корпоративного духа, который бы явно объединял гены двуустки против конкурирующей организации генов улитки. Если продолжать с той же долей безобидного антропоморфизма, то каждый ген борется только с другими аллелями из того же локуса, и он будет «объединяться» с генами из других локусов лишь постольку, поскольку это помогает ему в его эгоистичной войне с аллелями-соперниками. Ген двуустки может подобным образом «объединяться» с другими генами двуустки, но равным образом, если бы это было выгодно, он мог бы «заключить союз» и с какими-то из улиточьих генов. И если в реальности, тем не менее, гены улитки отбираются по способности работать сообща друг с другом и бороться с противостоящей им бандой генов двуустки, то это связано только с тем, что все гены улитки, как правило, выигрывают от одних и тех же событий, происходящих в мире. Гены двуустки извлекают выгоду из других событий. А истинная причина того, почему всем генам улитки выгодны одни и те же события, в то время как совокупность событий, полезных для двуусток, иная, проста: все гены улитки попадают в следующее поколение одним и тем же путем — через улиточьи гаметы. При этом все гены двуустки должны для попадания в следующее поколение пользоваться другой дорогой — через церкарии двуустки. Вот и все, что «объединяет» гены улитки против генов двуустки и наоборот. Если бы гены паразита покидали организм хозяина внутри его гамет, то дела могли бы обстоять совершенно иначе. Интересы генов хозяина и паразита, возможно, не совпадали бы на сто процентов, но были бы при этом намного более близкими, чем в примере с улиткой и двуусткой.
Итак, из взгляда на жизнь с точки зрения расширенного фенотипа следует, что решающее значение имеет тот способ, с помощью которого паразит передает свои гены от одного хозяина к другому. Если паразит и хозяин пользуются одним и тем же генетическим выходом из тела хозяина, то есть хозяйскими гаметами или спорами, то конфликт между «интересами» генов паразита и хозяина будет относительно небольшим. Например, и те, и другие будут «единодушны» насчет того, какую толщину раковины хозяина считать оптимальной. И те, и другие будут отбираться по своему воздействию не только на выживаемость хозяина, но и на его размножение — со всеми вытекающими. Сюда будут входить и успехи хозяина в ухаживании и даже — если паразит собирается передаться «по наследству» потомкам хозяина — его успехи в деле родительской заботы. Будь обстоятельства таковы, интересы паразита и хозяина, вероятно, совпали бы настолько, что нам уже трудно было бы обнаружить существование паразита как такового. Изучение таких «деликатных» паразитов и симбионтов, для которых успех гамет хозяина важен не меньше, чем выживание его тела, несомненно, представляет большой интерес для паразитологов и «симбиологов». Многообещающими объектами могут быть некоторые лишайники, а также бактериальные эндосимбионты насекомых, передающиеся трансовариально и в некоторых случаях, вероятно, влияющие на численное соотношение полов в популяции хозяина (Peleg & Norris, 1972).
В этом контексте хорошими кандидатами для исследования могут оказаться также митохондрии с хлоропластами и прочие органоиды клетки, обладающие собственной независимо реплицирующейся ДНК. Взгляд на органоиды и на внутриклеточные микроорганизмы как на полуавтономных симбионтов, формирующих экологию клетки, восхитительно изложен в трудах симпозиума «Клетка как среда обитания», изданных под редакцией Ричмонда и Смита (Richmond &: Smith, 1979). Особенно запоминающимися и удачными оказались слова, которыми Смит завершает написанную им вводную главу: «В неживых местообитаниях организм либо существует, либо нет. Но организм, заселивший внутриклеточную среду, может постепенно утрачивать свои части, медленно сливаясь с фоном, и только какими-то следами выдавая свое присутствие. На ум приходит встреча Алисы с Чеширским котом: когда она взглянула на него, он „исчез — на этот раз очень медленно. Первым исчез кончик его хвоста, а последней — улыбка; она долго парила в воздухе, когда все остальное уже пропало“[87]» (Smith, 1979). Интересный обзор всех стадий исчезновения улыбки провела Маргулис (Margulis, 1976).
Глава, написанная Ричмондом, также вся выдержана в духе следующего высказывания: «Функциональной единицей живого обыкновенно считается клетка. Другая точка зрения, особенно соответствующая теме данного симпозиума, состоит в том, что клетка — это минимальная единица, способная удваивать ДНК… Эта концепция помещает ДНК в центре всей биологии. Соответственно, ДНК рассматривается не просто как передающееся из поколения в поколение средство, обеспечивающее долговечность организмов, частью которых является. Вместо этого такая точка зрения акцентирует внимание на том, что основная роль клеток — максимальное увеличение количества и разнообразия ДНК в биосфере…» (Richmond, 1979). Последнее замечание, кстати, неудачно. Увеличение количества и разнообразия ДНК в биосфере никого не заботит. Лучше сказать, что каждый маленький кусочек ДНК отбирается по своей способности максимизировать собственные выживаемость и размножение. Ричмонд продолжает: «Если считать клетку единицей репликации ДНК, то из этого следует, что в клетке может содержаться больше ДНК, чем это необходимо для удвоения клетки: и на уровне ДНК — так же, как на более высоких уровнях биологической организации, — могут иметь место молекулярный паразитизм, симбиоз и мутуализм». Мы вернулись к концепции «эгоистичной ДНК», обсуждавшейся в главе 9.
Интересно поразмыслить о том, происходят ли митохондрии, хлоропласты и другие ДНК-содержащие органоиды от паразитических прокариот[88] (Margulis, 1970,1981). Но как бы ни был важен этот вопрос с исторической точки зрения, он не имеет никакого отношения к тому, о чем я говорю сейчас. Сейчас меня интересует, что вероятнее: что митохондриальная ДНК и ядерная ДНК будут стремиться к одному и тому же фенотипическому результату или что они будут в конфликте друг с другом. Это должно зависеть не от исторического происхождения митохондрий, а от того, каким способом они распространяют свою ДНК в настоящее время. Митохондриальные гены многоклеточного организма переходят в организм следующего поколения с цитоплазмой яйцеклетки. Оптимальный фенотип самки с точки зрения ее ядерных генов будет, вероятно, очень похож на оптимальный женский фенотип с точки зрения митохондриальной ДНК. И ядерные, и митохондриальные гены должны стараться, чтобы самка успешно выжила, размножилась и вырастила потомство. По крайней мере, пока речь идет о потомстве женского пола. Можно предположить, что митохондрии не «желают», чтобы их обладательницы имели сыновей: мужской организм — это олицетворение гибели митохондриального рода. Фамильная история всех ныне существующих митохондрий львиную долю времени проходила в организмах женского пола, и митохондрии могли бы попытаться обзавестись всем необходимым для того, чтобы оставаться в телах самок и дальше. У птиц интересы митохондриальной ДНК должны очень сильно совпадать с интересами ДНК Y-хромосомы и слегка отличаться от интересов аутосомной и Х-хромосомной ДНК. А если бы митохондриальная ДНК могла оказывать фенотипическое воздействие на яйцеклетки млекопитающих, то, возможно, не так уж фантастично было бы вообразить, как она яростно сопротивляется сперматозоиду, несущему Y-хромосому, с его «поцелуем смерти» (Eberhard, 1980; Cosmides &: Tooby, 1981). Но в любом случае интересы митохондриальной и ядерной ДНК, если и не всегда одинаковы, то очень близки — несомненно, ближе друг другу, чем интересы ДНК двуустки и улитки.
Основная идея этого отрывка следующая. Тот факт, что гены улитки конфликтуют с генами двуустки сильнее, чем с генами улитки из других локусов, — отнюдь не такая очевидная данность, как может показаться. Он является только следствием того, что любые два гена из клеточного ядра улитки вынуждены пользоваться одной и той же дверью в будущее. Оба в равной степени поставили на успех данной улитки в производстве гамет, их оплодотворении и обеспечении выживания и размножения получившегося потомства. Гены двуустки конфликтуют с генами улитки в своем влиянии на совместный фенотип просто потому, что скоро им будет не по пути: их общие цели ограничиваются сроком жизни этого конкретного хозяина и не распространяются на его гаметы и потомство.
Митохондрии в данной дискуссии послужили примером того, как гены паразита хотя бы отчасти делят свою участь с генами хозяина. Если ядерные гены из разных локусов не вступают в конфликт друг с другом, то это только потому, что мейоз беспристрастен: обычно он не оказывает предпочтения ни определенным локусам, ни определенным аллелям, а честно помещает в каждую гамету по одному гену, случайно выбранному из каждой диплоидной пары. Конечно же, бывают поучительные исключения, настолько существенные для темы моей книги, что я посвятил им целых две главы: об «отщепенцах» и об «эгоистичной ДНК». И там, как и здесь, важной мыслью было то, что реплицирующиеся объекты будут иметь склонность действовать друг против друга в той мере, в какой различаются те способы, которыми они пользуются для перехода из одного транспортного средства в другое.
Если же вернуться к главной теме главы настоящей, то паразитические и симбиотические взаимоотношения могут быть классифицированы для разных целей различными способами. Классификации, разработанные паразитологами и медиками, несомненно, полезны для своих целей, но я хочу разработать особую классификацию, опирающуюся на такое понятие, как влияние гена. Следует помнить, что с точки зрения этого понятия нормальные взаимоотношения между различными генами одного ядра, даже одной хромосомы, будут только одним из краев непрерывного спектра паразитических и симбиотических взаимоотношений.
На один из параметров своей классификации я уже указал. Он связан с тем, насколько сходными или различными являются способы, которыми гены хозяина и гены паразита выходят из организма хозяина и распространяются. На одном краю континуума будут те паразиты, которые для своего размножения используют пропагулы[89] хозяина. Оптимальный фенотип хозяина с точки зрения таких паразитов будет, вероятно, совпадать с оптимумом для собственных генов хозяина. Это не означает, что гены хозяина не «предпочли» бы вообще избавиться от паразита. Но и тот, и другой заинтересованы в массовом производстве одних и тех же единиц размножения, а также в формировании фенотипа, такому массовому производству способствующего: правильной длины клюва, формы крыла, брачного поведения, размера выводка и т. д. вплоть до мельчайших деталей.
С противоположного краю разместятся паразиты, гены которых используют для своего распространения не репродуктивные единицы хозяина, а, скажем, выдыхаемый им воздух или его труп. В этих случаях оптимальный фенотип хозяина с точки зрения генов паразита будет, вероятно, очень сильно отличаться от оптимума с точки зрения генов хозяина. Возникающий в итоге фенотип будет компромиссным. Итак, это один параметр классификации взаимоотношений паразит — хозяин. Назову его «степенью совпадения пропагул».
Второй параметр этой классификации касается того, когда именно осуществляется воздействие паразита в онтогенезе хозяина. Ген — кому бы он ни принадлежал, хозяину или паразиту, — сможет оказать более серьезное влияние на окончательный фенотип хозяина, действуя на ранних стадиях его развития, а не на поздних. Коренная перестройка — например, появление второй головы — может произойти благодаря единичной мутации (в геноме хозяина или паразита), только при том условии, что мутация эта оказывает свое воздействие на достаточно ранних этапах эмбрионального развития хозяина. Эффект мутантного гена (опять же кому бы, хозяину или паразиту, он ни принадлежал), включающегося поздно, когда организм хозяина достиг половой зрелости, будет, скорее всего, слабым, так как общий план строения тела к этому времени уже реализован. Следовательно, паразит, который попадает в хозяина, когда тот уже взрослый, вряд ли окажет кардинальное влияние на его фенотип, в отличие от паразита, поражающего на ранних стадиях развития. Существуют, однако, и примечательные исключения, вроде уже упоминавшейся паразитарной кастрации у ракообразных.
Третий показатель, по которому я собираюсь классифицировать взаимоотношения паразитов и хозяев, имеет отношение к континууму, крайние точки которого: «тесная близость» и «дистанционное управление». Изначально все гены оказывают свое влияние благодаря тому, что служат матрицами для синтеза белков. Следовательно, первичный рычаг власти гена — это клетка, а в частности — цитоплазма, окружающая ядро, в котором ген находится. Информационная РНК, вытекая через ядерную мембрану, опосредует генетический контроль биохимических процессов в цитоплазме. Итак, фенотипическая экспрессия гена — это, в первую очередь, его влияние на биохимию цитоплазмы. Что, в свою очередь, влияет на форму и на структуру клетки в целом, а также на природу ее химических и физических взаимодействий с соседними клетками. Это оказывает влияние уже на процесс постройки многоклеточных тканей, а затем и на дифференцировку множества различных тканей в развивающемся организме. В конечном итоге возникают такие признаки целого организма, которые исследователи, изучающие макроскопическое строение и поведение, тоже воспринимают как проявления фенотипической экспрессии генов.
В тех случаях, когда гены паразита и гены хозяина совместно влияют на один и тот же фенотипический признак хозяина, объединение этих двух влияний может происходить на любом из этапов только что описанной цепочки событий. На клеточном и тканевом уровнях гены улитки и гены паразитирующей на улитке двуустки действуют порознь. Они влияют на химический состав клеточной цитоплазмы отдельно друг от друга, потому что у них нет общих клеток. Порознь воздействуют они и на формирование тканей, поскольку улиточьи ткани не сплетены воедино с тканями двуустки подобно тому, как тесно связаны друг с другом водорослевый и грибной компоненты лишайника. На формирование органов, да и целых организмов, гены улитки и гены двуустки тоже влияют порознь, так как клетки двуустки сбиваются вместе в одну кучу, а не перемешиваются с клетками улитки. Если гены двуустки и влияют на толщину улиточьей раковины, то делают они это после того, как в сотрудничестве с другими генами двуустки соорудят целую двуустку.
Другие паразиты и симбионты глубже протискиваются в устройство организма хозяина. Крайний вариант — плазмиды и другие фрагменты ДНК, которые, как мы видели в главе 9, буквально встраиваются в хозяйские хромосомы. Невозможно себе представить связь интимнее. Наша собственная «эгоистичная ДНК» не более нам близка, и мы можем даже никогда не узнать, сколько именно наших генов, — как «бесполезных», так и «нужных», — произошло от встроенных плазмид. Исходя из идеи данной книги получается, что существенной разницы между нашими «собственными» генами и встроенными паразитическими последовательностями нет. Сотрудничать они будут друг с другом или конфликтовать — это зависит не от их исторических корней, а от того, что им выгодно сейчас.
У вирусов имеется собственная белковая одежка, но свою ДНК они помещают в клетку хозяина. Выходит, что для того, чтобы влиять на его клеточную биохимию, они пробрались довольно глубоко, пусть даже и менее глубоко, чем инсерционные последовательности у него в хромосомах. Можно предположить, что и внутриклеточные цитоплазматические паразиты имеют возможность оказывать на фенотип хозяина значительное влияние.
Некоторые паразиты не проникают внутрь хозяина на уровне клеток, но делают это на уровне тканей. В качестве примера подойдет Sacculina, а также многие паразитические грибы и растения, которые сохраняют обособленность своих клеток от клеток хозяина, поражая при этом его ткани с помощью сложно организованной и чрезвычайно разветвленной корневой системы. Столь же плотно могут просачиваться в ткани хозяина и обособленные клетки паразитических бактерий и простейших. Такой «тканевый паразит» тоже способен оказывать мощное влияние на развитие органов и макроскопических черт строения и поведения хозяина, хотя и находится в положении, чуть менее удобном для этого, чем паразит внутриклеточный. Другие же внутренние паразиты, вро& обсуждавшихся нами двуусток, не смешивают свои ткани с тканями хозяина, а оставляют их при себе и оказывают влияние только на уровне целостных организмов.
Но это еще не крайняя точка континуума. Не все паразиты обитают физически внутри своих хозяев. Они могут даже соприкасаться редко. Кукушка — это паразит во многом того же типа, что и двуустка. Обе являются паразитами на организменном уровне, а не тканевыми или внутриклеточными. И если можно говорить о том, что гены двуустки фенотипически экспрессируются в организме улитки, то нет никаких разумных причин, которые бы не позволяли говорить о фенотипической экспрессии генов кукушки в организме тростниковой камышовки. Различия имеют технический характер, и они намного меньше, чем, скажем, между внутриклеточными и тканевыми паразитами. Эта техническая разница состоит в том, что кукушка не живет внутри тела тростниковой камышовки и, следовательно, у нее меньше возможностей манипулировать внутренней биохимией своего хозяина. В своем манипулировании она должна использовать другие средства — например, звуковые и световые волны. Как уже говорилось в главе 4, она использует ненормально яркий зев, чтобы управлять нервной системой тростниковой камышовки через зрение. Она пользуется чрезмерно громким и назойливым криком, чтобы воздействовать на нервную систему тростниковой камышовки через слух. Гены кукушки, оказывая свое формирующее влияние на фенотип хозяина, вынуждены полагаться на дистанционное управление.
Идея о генетическом дистанционном управлении подводит нашу концепцию расширенного фенотипа к ее логической кульминации. К ней-то мы и должны будем прийти в следующей главе.
| <<< Назад Глава 11. Генетическая эволюция артефактов животных |
Вперед >>> Глава 13. Действие на расстоянии |
- Предисловие научного редактора
- Предисловие
- Примечание ко второму изданию
- Глава 1 Куб Неккера и буйволы
- Глава 2. Генетический детерминизм и генный селекционизм
- Глава 3. Пределы совершенства
- Глава 4. Манипуляции и гонка вооружений
- Глава 5. Активный репликатор зародышевого пути
- Глава 6. Организмы, группы и мемы: репликаторы или транспортные средства?
- Глава 7. Эгоистичная оса или эгоистичная стратегия?
- Глава 8. Отщепенцы и модификаторы
- Глава 9. Эгоистичная ДНК, скачущие гены и призрак ламаркизма
- Глава 10. Головная боль в пяти «приступособлениях»
- Глава 11. Генетическая эволюция артефактов животных
- Глава 12. Гены паразитов — фенотипы хозяев
- Глава 13. Действие на расстоянии
- Глава 14. Заново открывая организм
- Послесловие. Дэниел Деннет
- Список цитированной литературы
- Список рекомендуемой литературы
- Содержание книги
- Популярные страницы
- Секс против паразитов
- Хозяева прибрежных и островных вод
- Акулы пресных вод — завоеватели или возвратившиеся хозяева?
- Фундаментальная неизбежность паразитов
- Одна жизнь, множество хозяев
- 686. Что такое цепь паразитов?
- Хозяева Земли
- Триумф паразитов
- Войны паразитов?
- Великая война с сектой паразитов (1917–201…). Отечественная война (22 июня 1941–9 мая 1945) 1941 год, 22 июня. Начало Ве...
- Война секты паразитов против русской генетики
- Интриги паразитов