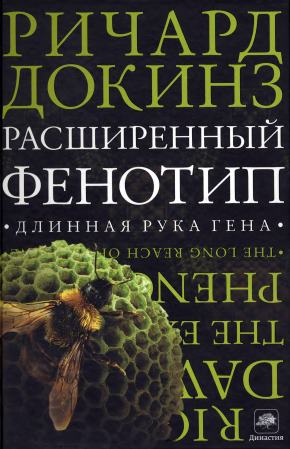Книга: Расширенный Фенотип: длинная рука гена
Глава 14. Заново открывая организм
| <<< Назад Глава 13. Действие на расстоянии |
Вперед >>> Послесловие. Дэниел Деннет |
Глава 14. Заново открывая организм
На протяжении почти всей книги мы занимались тем, что умаляли значение индивидуального организма, взамен выстраивая картину, представляющую собой беспорядочное поле битвы репликаторов, борющихся с альтернативными аллелями за выживаемость, беспрепятственно проникающих сквозь стенки тела, как будто эти стенки прозрачные, взаимодействующих с миром и друг с другом, игнорируя границы между организмами. И вот теперь мы застыли в нерешительности. Что-то в них есть, в этих индивидуальных организмах! Если бы можно было надеть такие очки, в которых живые тела действительно выглядели бы прозрачными и видно было бы одну ДНК, то мы обнаружили бы, что ДНК распределена в мире чрезвычайно неравномерно. Если бы клеточные ядра сияли подобно звездам, а все остальное было бы невидимым, тогда многоклеточные организмы напоминали бы плотно упакованные галактики, разделенные пустым пространством. Мы увидели бы мириады сверкающих точек, передвигающихся согласованно друг с другом и не связанных с представителями других галактик.
Организм — это физически обособленный аппарат. Как правило, отгороженный от других подобных аппаратов. Он обладает внутренней структурой, иногда ошеломляюще сложной, и для него в высокой степени характерно свойство, которое Джулиан Хаксли обозначил как «индивидуальность» (что в буквальном перево& означает «неделимость») — разнородность частей, достаточная для того, чтобы перестать функционировать, будучи разрезанным пополам (Huxley, 1912). С точки зрения генетики организм тоже обычно представляет собой четко определяемую единицу, все клетки которой содержат одни и те же гены, отличные от генов других организмов. Для иммунолога организм обладает особой формой «уникальности» (Medawar, 1957), заключающейся в том, что он готов принять без отторжения свои собственные трансплантаты, но не трансплантаты, взятые от других. Для этолога — впрочем, это одна из сторон хакслиевской неделимости — организм является единицей поведенческой активности в гораздо большей степени, чем группа организмов или часть организма. У организма имеется одна скоординированная центральная нервная система. Он принимает «решения» (Dawkins &: Dawkins, 1972), как единое целое. Все его части одновременно направлены на выполнение общей задачи. В тех случаях, когда два или более организмов пытаются объединить свои усилия, — например, когда львиный прайд подкрадывается к добыче, — степень их скоординированности едва ли сравнима с той сложнейшей гармонией, с той временной и пространственной точностью, с какой взаимодействуют сотни мускулов каждой отдельной особи. Амбулакральные ножки морских звезд обладают известной автономией и могут разорвать животное пополам, если ему хирургически разрезать околоротовое нервное кольцо. Но в природе морская звезда ведёт себя как целостный объект, имеющий какую-то единую цель.
Я благодарен доктору Дж. П. Хейлману, что он не стал скрывать от меня саркастический отзыв, которым один коллега удостоил мою статью, бывшую пробным запуском идей данной книги (Dawkins, 1978а): «Докинз заново открыл организм». Ирония не ускользнула от меня, но на самом деле все несколько сложнее. Мы согласны с тем, что существует нечто, делающее организм особенным уровнем в иерархии живого, но это не что-то очевидное, что можно было бы просто принять без обсуждения. Я очень надеюсь, что эта книга показала наличие у куба Неккера оборотной стороны. Но кубы Неккера имеют обыкновение возвращаться в исходное положение, а потом то и дело менять конфигурацию.
Теперь, когда мы увидели другую сторону куба Неккера, когда наш взгляд привык проникать сквозь стенки организмов как внутрь — в мир репликаторов, так и наружу — к их расширенным фенотипам, теперь мы, по идее, должны бы яснее понимать, какая же особенность индивидуального организма делает его единицей жизни, в чем бы эта особенность ни заключалась.
Так что же такого необычного в индивидуальном организме? Если мы можем рассматривать жизнь как совокупность репликаторов и их расширенно-фенотипических инструментов выживания, то почему тогда на деле репликаторы предпочитают сотнями тысяч группироваться в клетках и понуждают эти клетки образовывать многомиллиардные клоны, называемые организмами?
Один из вариантов ответа подсказывает нам логика сложных систем. Саймон в своем побуждающем к размышлению эссе «Устройство сложности», используя ставшую знаменитой притчу про двух часовщиков Темпуса и Хору, выдвигает общую рациональную причину, по которой любая комплексная структура, биологическая или искусственная, имеет тенденцию формировать иерархическую организацию из соподчиненных однотипных субъединиц (Simon, 1962). Я уже излагал эту мысль применительно к этологии и пришел к заключению, что эволюция статистически «маловероятных систем протекает быстрее, если имеется последовательность промежуточных стабильных подсистем. Эти же рассуждения можно применить и к каждой из подсистем, а следовательно, существующие в мире системы высокой сложности будут, вероятнее всего, иметь иерархическую структуру» (Dawkins, 1976b). В данном случае иерархичность заключается в том, что гены собираются в клетках, а клетки — в организмах. Маргулис приводит убедительные и увлекательные аргументы в поддержку старой идеи о том, что у этой иерархии есть еще один промежуточный уровень: эукариотические клетки сами по себе являются в некотором смысле «многоклеточными» образованиями, симбиотическими объединениями объектов, таких как митохондрии, пластиды и жгутики, которые гомологичны прокариотическим клеткам и происходят от них (Margulis, 1981). Больше я не буду касаться этой темы. Мысль Саймона очень общая, а нам нужен ответ на конкретный вопрос, почему репликаторы предпочитают объединять свои фенотипы в функциональные комплексы — в первую очередь, на двух уровнях: клетки и многоклеточного организма.
Для того чтобы задаваться вопросами, почему мир таков, каков он есть, мы должны представить себе, а каким он мог бы быть. Нужно придумать возможные миры, жизнь в которых была бы организована по-другому, и спросить себя, как бы все устроилось в таких мирах. Какие же альтернативы существующей жизни было бы полезно представить? Во-первых, чтобы понять, почему реплицирующиеся молекулы концентрируются в клетках, давайте представим себе мир, где они свободно плавают в океане. Там будет существовать множество разных репликаторов, они станут конкурировать друг с другом за пространство и за химические ресурсы, необходимые для построения собственных копий, но при этом не сгруппируются ни в хромосомах, ни в ядрах. Каждый одиночный репликатор оказывает фенотипические воздействия, способствующие его копированию, а отбор благоприятствует тем репликаторам, воздействия которых наиболее эффективны. Легко предположить, что подобный мир будет эволюционно нестабилен. Его заполонят мутантные репликаторы, «собирающиеся в банды». Химические эффекты некоторых репликаторов будут дополнять друг друга — в том смысле, что если химические эффекты двух репликаторов объединить, то это будет содействовать копированию обоих (Модель 2 из предыдущей главы). Я уже приводил в качестве примера гены, которые кодируют ферменты, катализирующие последовательные этапы биохимического синтеза. Этот принцип можно распространить и на более крупные группы взаимодополняющих реплицирующихся молекул. Биохимия нашей планеты действительно позволяет предположить, что минимальная реплицирующаяся единица (за возможным исключением живущих на всем готовеньком абсолютных паразитов) должна состоять примерно из пятидесяти цистронов (Margulis, 1981). Для наших рассуждений не имеет значения, каким образом возникают новые гены: то ли старые гены удваиваются и остаются неразделенными, то ли гены, бывшие изначально независимыми, в самом деле собираются вместе. И в том, и в другом случае мы в равной степени можем говорить об эволюционной стабильности «объединенного» состояния.
Итак, для чего гены собираются в клетках, понять несложно, но зачем клеткам сбиваться в многоклеточные клоны? Можно подумать, что тут никакие мысленные эксперименты не нужны, так как наш мир изобилует одноклеточными и неклеточными формами жизни. Все они, однако, мелкие, и, возможно, имеет смысл попытаться представить себе мир, в котором существовали бы крупные и сложно устроенные одноклеточные или одноядерные организмы. Вообразима ли такая форма жизни, при которой один-единственный набор генов, восседающий в единственном центральном ядре, управлял бы биохимией макроскопического тела со сложными органами, будь то одна гигантская клетка или многоклеточный организм, все клетки которого, за исключением одной, не имеют своей собственной копии генома? Я думаю, что такая форма жизни могла бы существовать, только если бы ее эмбриология покоилась на принципах, совершенно не похожих на те, что нам известны. При всех знакомых нам типах развития, в любой развивающейся ткани в любой момент времени «работает» лишь меньшая часть генов (Gurdon, 1974). Согласен, пока что это слабый аргумент, но все же трудно понять, каким образом необходимые генные продукты могли бы переправляться в нужные части развивающегося организма в нужное время, если бы на весь организм имелся только один набор генов.
Но почему в каждую клетку тела должен попадать полный набор генов? Такую форму жизни, при которой геном разделялся бы на части в процессе дифференцировки, представить себе, безусловно, несложно. Тогда каждый тип ткани — скажем, в печени или в почках — получал бы только те гены, которые ему нужны.
Казалось бы, только у клеток половой линии есть необходимость сохранять геном целиком. Дело, возможно, всего-навсего в том, что не существует простого способа физически разделять геном на части. Ведь, в конце концов, все гены, нужные в какой-то определенной дифференцирующейся области развивающегося организма, не собираются на одной хромосоме. Полагаю, тут мы могли бы задаться вопросом: а почему все обстоит именно так? Но исходя из того факта, что все так, а не иначе, можно предположить, что полное удвоение генома при каждом клеточном делении — это просто самый легкий и экономичный вариант. Однако в свете моей притчи про марсианина-идеалиста и необходимость быть циничным читатель, возможно, поддастся соблазну пойти в своих предположениях дальше. Не может ли статься, что полное, а не частичное копирование генома при митозе является приспособлением некоторых генов, которое позволяет им выявлять среди своих коллег потенциальных отщепенцев и обезвреживать их? Лично я сомневаюсь, и не потому что все это чистейшая выдумка, а потому что трудно представить себе, какую выгоду извлечет, допустим, ген, находящийся в печени, если он взбунтуется и начнет вредить генам из почек или из селезенки. Исходя из логики главы о паразитах, интересы «генов печени» и «генов почки» должны совпадать, поскольку у них общая зародышевая линия и все они выходят из тела в одних и тех же гаметах.
Я не дал организму строгого определения. Можно, в самом деле, утверждать, что понятие «организм» имеет сомнительную ценность хотя бы потому, что его трудно определить удовлетворительным образом. С точки зрения иммунологии или генетики пара однояйцевых близнецов могла бы считаться единым организмом, хотя для физиолога, этолога или с позиции хакслиевско-го критерия неделимости она под это понятие однозначно не подходит. Что такое «особь» в колонии сифонофор или мшанок? Словосочетание «индивидуальный организм» вызовет у ботаника меньше теплых чувств, чем у зоолога, и на то есть причины: «Особь плодовой мушки, хрущака, кролика, плоского червя или слона представляет собой популяцию на клеточном, и ни на каком другом, более высоком, уровне. От голодания у животного не меняется количество ног, сердец или печенок, однако у растений стресс будет влиять как на формирование новых листьев, так и на отмирание старых. Растение может отвечать на стресс изменением числа частей своего тела» (Harper, 1977, р. 20–21). Для Харпера, изучающего популяции растений, лист может казаться «особью» в большей степени, чем «растение» — беспорядочный, нечеткий объект, чье размножение иногда трудно отличимо от того, что зоологи беззаботно называют «ростом». Харпер чувствует потребность ввести два новых термина для обозначения разных типов «индивидуума» в ботанике. «Единицей клонального роста является „рамет“ — объект, который, будучи отъединен от родительского растения, как правило, способен вести независимое существование». Иногда — например, у земляники — рамет и есть то, что мы называем «растением». У других видов, скажем, у клевера ползучего, раметом может быть и отдельный лист. А «ге-нет» — это все, что вырастает из одноклеточной зиготы, «организм» с точки зрения зоолога, изучающего животных, которые размножаются половым путем.
Янзен тоже попытался разобраться с этой трудностью (Janzen, 1977), предложив рассматривать клон одуванчиков как единого «эволюционного индивидуума» (харперовский генет), эквивалентного одному дереву — пусть и не подвешенного на стволе, а разбросанного по поляне и физически разделенного на отдельные «растения» (раметы, по Харперу). В соответствии с такой точкой зрения возможно, что на территории всей Северной Америки друг с другом конкурируют всего четыре «особи одуванчика». Аналогичного взгляда Янзен придерживается и на колонию тлей. В его статье отсутствуют литературные ссылки, но такая точка зрения не нова. Она существует по меньшей мере с 1854 г., когда Т. Г. Гекели «трактовал каждый жизненный цикл как особь, принимая за целостную единицу все, что возникает от зиготы до зиготы. Он даже последовательность бесполых поколений у тлей рассматривал как индивидуума» (Ghiselin, 1981). У этого подхода есть свои достоинства, но я покажу, что при этом остается за бортом нечто важное.
Доводы Гексли/Янзена могут быть сформулированы следующим образом. Зародышевая линия типичного организма — скажем, человека — каждый раз между мейотическими делениями проходит, вероятно, через несколько десятков митозов. Если, как в главе 5, взглянуть на «прошлый опыт гена» ретроспективно, то история клеточных делений, в которых принимал участие любой ген любого человека, будет выглядеть так: мейоз, митоз, митоз… митоз, мейоз. В каждом из сменяющих друг друга тел, помимо митозов, происходивших в клетках зародышевого пути, были и другие митотические деления, обеспечивавшие зародышевую линию гигантским клоном «клеток-помощниц», которые группировались в организм, где «квартировали» половые клетки. В каждом поколении зародышевая линия вытекает через одноклеточное «бутылочное горлышко» (гамету, дающую начало зиготе), затем раздувается до многоклеточного организма, затем снова вытекает через узкое горлышко и т. д. (Bonner, 1974).
Многоклеточный организм — это машина по производству одноклеточных пропагул. Крупных животных, например слонов, лучше всего рассматривать как тяжелую машинерию, временное депо ресурсов, скапливаемых с той целью, чтобы производить пропагулы позже, но более успешно (Southwood, 1976). Зародышевая линия в каком-то смысле «предпочла бы» сократить инвестиции в промышленность, уменьшить число клеточных делений в период роста и таким образом сделать ожидание заветного размножения более коротким. Однако период роста имеет некую оптимальную продолжительность, которая при каждом способе существования своя. Гены, побуждавшие слонов к размножению, когда те были слишком молодыми и мелкими, распространялись менее эффективно по сравнению с более терпеливыми аллелями. Для генов, оказавшихся в слоновьих генофондах, длина этого оптимального промежутка времени будет сильно больше, чем для генов из генофондов мышей. В случае со слонами, для того чтобы получать доход, требуется сделать более крупные капиталовложения. А одноклеточные практически полностью обходятся без фазы роста в своем жизненном цикле, все клеточные деления у них «репродуктивные».
Из такого взгляда на организмы следует, что конечным продуктом, «целью» фазы роста является размножение. Митотические клеточные деления, в результате которых получается слон, направлены исключительно на то, чтобы в конечном итоге произвести жизнеспособные гаметы, увековечивающие зародышевую линию. Теперь, памятуя об этом, давайте взглянем на тлей. В течение лета партеногенетические самки дают начало нескольким сменяющим друг друга поколениям, размножающимся бесполым путем. Эта последовательность венчается единственным половым поколением, которое начинает цикл заново. Безусловно, нетрудно провести аналогию со слоном и вслед за Янзеном считать летние бесполые поколения направленными к одной конечной цели — осеннему половому размножению. Бесполое размножение, согласно такой точке зрения, — это и не размножение вовсе. Это рост, точно такой же, как и рост слоновьего тела. Для Янзена весь клон самок тлей представляет собой один эволюционный организм, поскольку возникает в результате единственного слияния гамет. Это необычный индивидуум в том смысле, что он раздроблен на множество физически не связанных друг с другом единиц — ну и что с того? Каждая из этих обособленных единиц содержит собственную порцию зародышевой плазмы, но то же самое можно сказать и про левый и правый яичники слонихи. В случае с тлями эти порции половых клеток разделены слоем воздуха, в то время как слоновьи яичники разделены кишками, но опять же и что с того?
Как бы ни была убедительна подобная аргументация, я уже упоминал, что она упускает кое-что важное. Справедливо рассматривать большинство митотических делений как «рост», который в конечном итоге «служит» для размножения. Также справедливо считать индивидуальный организм результатом одного репродуктивного события. Но Янзен, пытаясь выявить разницу между размножением и ростом, совершает ошибку, подменяя это противопоставлением понятий «половой» и «бесполый». Какое-то важное различие здесь наверняка скрывается, но пролегает оно не между полом и его отсутствием и не между мейозом и митозом.
То различие, которое хотелось бы подчеркнуть мне, — это различие между делениями половых клеток (размножением) и соматическими или «тупиковыми» клеточными делениями (ростом). При делении половых клеток копирующиеся гены имеют шансы оказаться предками бесконечно длинной цепи потомков, все представители которой будут, если выражаться в терминах главы 5, истинными репликаторами зародышевого пути. Деление половой клетки может быть как митотическим, так и мейотическим. Если просто рассматривать деление клетки под микроскопом, то не всегда можно сказать, в зародышевой линии оно происходит или нет. Митотические деления половых и соматических клеток могут быть внешне неразличимы.
Если мы возьмем любой ген в любой клетке любого живого организма и проследим его эволюционную историю, то несколько самых последних клеточных делений в его «биографии» могут быть соматическими, но как только мы в своем продвижении назад доберемся до ближайшего деления половых клеток, все остальные клеточные деления тоже будут делениями клеток зародышевой линии. Деления половых клеток можно считать продвижением вперед по эволюционной шкале, а соматические клеточные деления — отходами в сторону. Деления соматических клеток используются для построения смертных тканей, органов и приспособлений, «назначение» которых — способствовать клеточным делениям в зародышевой линии. Наш мир населен генами зародышевого пути, выжившими вследствие той помощи, которую они получали от своих точных копий в соматических клетках. Рост происходит благодаря воспроизведению тупиковых соматических клеток, в то время как размножение — это средство воспроизведения клеток зародышевой линии.
Харпер проводит разграничение между размножением и ростом у растений, в общем и целом равносильное тому, как я различаю деления половых и соматических клеток: «Разница между „размножением“ и „ростом“, о которой идет речь, заключается в том, что размножение подразумевает образование нового индивидуума из одной клетки — как правило, это зигота (хотя и не всегда — например, при апомиксисе). Новый организм в этом случае „воспроизводится“ на основе информации, закодированной в данной клетке. Рост же, напротив, происходит в результате развития организованных меристем» (Harper, 1977, р.27). Что интересует нас сейчас, так это то, есть ли на самом деле существенное биологическое различие между ростом и размножением, которое при этом не было бы тождественно различию митоз/мейоз + половой процесс. Имеется ли принципиальная разница между «размножением», когда из одной тли получается две, и «ростом», когда одна тля увеличивается вдвое? Янзен, вероятно, ответил бы нет. Харпер, по-видимому, сказал бы да. Я согласен с Харпером, но я не смог бы этого объяснить, если бы не прочел вдохновляющую книгу Дж. Т. Боннера «О развитии» (Bonner, 1974). Мою позицию лучше всего будет обосновать при помощи мысленных экспериментов.
Представьте себе примитивное растение с плоским, напоминающим лист кувшинки слоевищем, которое плавает по поверхности океана, поглощая питательные вещества нижней, а солнечный свет — верхней стороной. Вместо того чтобы «размножаться» (то есть выбрасывать вовне одноклеточные пропагулы), оно просто растет по краям, разрастаясь в непрерывно увеличивающийся в размерах круглый зеленый ковер, — как лист исполинской кувшинки, имеющий в диаметре несколько миль и не собирающийся на этом останавливаться. Возможно, старые участки таллома со временем отмирают, так что, в отличие от листа кувшинки, он представляет собой не сплошной круг, а расширяющееся кольцо. Также может быть, что время от времени от него отламываются куски, подобно льдинам, откалывающимся от ледяного поля, и разносятся океаническими течениями в разные стороны. Даже если мы допустим существование подобной фрагментации, я покажу, что это не размножение в интересующем нас смысле слова.
Теперь давайте представим себе похожее растение, которое отличается от предыдущего в одном очень важном отношении. Достигая диаметра 1 фут, оно перестает расти, а вместо этого начинает размножаться. Оно производит одноклеточные пропагулы — половым или бесполым путем — и выбрасывает их в воздух, после чего они могут относиться ветром на большие расстояния. Упав на водную поверхность, такая пропагула дает начало новому слоевищу. Оно тоже вырастает шириной в 1 фут, после чего переходит к размножению. Назову эти два вида, соответственно, ростиум и размножиум.
Если мы будем придерживаться логики янзеновской статьи, то заметим принципиальное различие между этими двумя видами только в том случае, если «размножение» второго из них, размножиума, является половым. Если оно бесполое, и пропагулы, разбрасываемые в воздух, образуются в результате митоза и генетически идентичны клеткам родительского таллома, тогда, по Янзену, никакой существенной разницы между двумя видами нет. Отдельные «индивидуумы» размножиума можно считать генетически обособленными не в большей степени, чем различные участки слоевища ростиума. У любого из этих видов мутация может дать начало новому клону клеток. И нет никакой особой причины, по которой у размножиума мутация должна с большей вероятностью произойти при образовании пропагул, а не во время роста таллома. Размножиум — это просто-напросто более раздробленный вариант ростиума, точно так же как клон одуванчиков можно уподобить фрагментарному дереву. Цель моего мысленного эксперимента, однако же, выявить важное различие между двумя этими гипотетическими видами, продемонстрировав таким образом, в чем разница между ростом и размножением, даже если размножение бесполое.
Ростиум только растет, а размножиум растет и размножается попеременно. Почему же это различие существенно? Тут невозможно ограничиться простым генетическим ответом, поскольку мы видели, что мутации при митозе могут с одинаковой вероятностью давать начало генетическим изменениям как во время роста, так и во время размножения. По моему мнению, разница между нашими двумя видами состоит в том, что размножиум способен вырабатывать в ряду поколений сложные приспособления тем путем, который недоступен для ростиума. Сейчас объясню, в чем дело.
Давайте еще раз посмотрим на «прошлый опыт» гена — в данном случае, гена, находящегося в одной из клеток размножиума. Вся история его существования состояла в том, что он многократно передавался от одного «транспортного средства» к другому, точно такому же. Каждый из этих сменявших друг друга организмов начинал как одноклеточная пропагула, затем проходил через фиксированный период роста, после чего передавал рассматриваемый ген новой одноклеточной пропагуле, а значит, и новому многоклеточному организму. Эта история была цикличной, и вот мы уже подбираемся к сути. Поскольку в длинном ряду сменяющих друг друга тел каждое развивалось из одноклеточной стадии заново, у этих сменяющих друг друга тел была возможность развиваться чуть-чуть иначе по сравнению со своими предшественниками. Эволюция сложно устроенного организма, оснащенного такими органами, как, скажем, изощренный ловчий аппарат венериной мухоловки, возможна только при наличии циклически возобновляемого процесса развития.
Я очень скоро возвращусь к этой мысли. А пока давайте-ка посмотрим на ростиум. История гена, находящегося в молодой клетке на растущем краю гигантского слоевища, нециклическая или, можно сказать, циклическая только на клеточном уровне. Эта клетка является потомком другой клетки, и карьера у обеих клеток была весьма сходная. А каждая клетка размножиума, напротив, занимает в последовательности делящихся клеток точное положение. Она находится либо вблизи центра i-футового таллома, либо с краю, либо в каком-то конкретном месте посередине. И потому она может дифференцироваться, чтобы играть свою особую роль в определенной точке растительного органа. Клетки ростиума лишены этой своеобразной уникальности в ходе онтогенеза. Все они возникают на краю слоевища, а после оказываются окружены другими, более молодыми клетками. Цикличность имеет место только на клеточном уровне, а это значит, что только на этом уровне у ростиума могут осуществляться эволюционные преобразования. Клетки могут совершенствоваться по сравнению со своими предшественницами в ряду клеточных поколений — скажем, усложнять строение своих органоидов. Но из-за отсутствия повторяющегося, циклического развития групп клеток возникновение органов и приспособлений на многоклеточном уровне невозможно. Разумеется, все клетки ростиума, также как и их предшественницы, находятся в физическом контакте с другими клетками и в этом смысле формируют многоклеточную «структуру». Но если говорить о способности образовывать сложные многоклеточные органы, то в этом они ничем не отличаются от одиночных простейших.
Чтобы собрать сложный многоклеточный орган, необходим сложный процесс развития. Сложный процесс развития должен был произойти от другого процесса развития, чуть менее сложного. Должна была существовать эволюционная последовательность процессов развития, каждый из которых был немножко лучше своего предшественника. У ростиума периодически повторяющиеся процессы развития отсутствуют, если не считать бессчетных циклов на уровне отдельных клеток. Следовательно, ростиум не способен к тканевой дифференцировке и к усложнениям на уровне органов. Если только вообще можно в данном случае говорить о развитии многоклеточного организма, то развитие это продолжается в геологическом масштабе времени без какой-либо цикличности: шкала развития и шкала возможной эволюции у такого вида неразличимы. Единственный повторяющийся с высокой частотой периодический процесс — это клеточный цикл. А вот у размножиума и на многоклеточном уровне существует короткий по эволюционным меркам цикл развития. Следовательно, с течением веков последующие циклы развития могут отличаться от предшествующих, и это открывает возможность для возникновения сложных многоклеточных структур. Мы близки к тому, чтобы определить организм как единицу, берущую свое начало в результате нового акта размножения, осуществляемого через «бутылочное горлышко» одноклеточной стадии развития.
Важное различие между ростом и размножением состоит в том, что при каждом акте размножения запускается новый цикл развития. А рост — это когда уже существующее тело просто раздается в размерах. Когда одна тля партеногенетически порождает другую, то новая тля, если она мутант, может кардинально отличаться от своей предшественницы. Когда же тля вырастает вдвое по сравнению со своим исходным размером, то все ее органы и сложные структуры просто увеличиваются. Тут мне могут возразить, что и в клеточных клонах растущей исполинской тли могут происходить соматические мутации. Это верно, однако мутация в соматической линии клеток — скажем, в сердце — не может преобразовать строение сердца коренным образом. Если перейти к позвоночным, то очень маловероятно, чтобы новая мутация в делящихся митозом клетках на краю растущего двухкамерного сердца с одним предсердием и одним желудочком привела к возникновению четырехкамерности и обособлению легочного крута кровообращения. Для создания новой сложной структуры необходимо начинать развитие с начала. Новый эмбрион должен отталкиваться от исходных позиций — вообще без какого бы то ни было сердца. Тогда мутация сможет воздействовать на стратегически важные точки раннего развития, так чтобы сердце получило принципиально новое строение. Повторяемость циклов развития позволяет каждому поколению возвращаться «назад, к чертежной доске» (см. ниже).
Мы начали эту главу с вопроса, почему репликаторы объединились в крупные многоклеточные клоны, называемые организмами, и первый пришедшим на ум ответ не вполне нас удовлетворил. Но вот теперь начинает вырисовываться более убедительное объяснение. Организм — это физически обособленная единица, соответствующая одному и только одному жизненному циклу. Жизнь репликаторов, объединившихся в многоклеточные организмы, превращается в череду регулярно повторяющихся циклов, что способствует выживанию репликаторов, приводя с течением эволюционного времени к возникновению сложных адаптаций.
Жизненный цикл некоторых животных включает в себя более одного четко различимого организма. Бабочка совершенно не похожа на предшествовавшую ей гусеницу. Трудно представить себе превращение гусеницы в бабочку путем медленного видоизменения органов, так чтобы каждый орган гусеницы преобразовывался в соответствующий орган бабочки. Вместо этого сложная структура органов гусеницы в значительной степени разрушается, и ее ткани служат сырьем для образования полностью нового тела. Это новое тело бабочки начинается не совсем с одной-единственной клетки, но сам принцип сохраняется. Кардинально измененная структура организма возникает из примитивных, слабодифференцированных имагинальных дисков. Происходит частичный возврат к чертежной доске.
Если же вернуться к нашему проведению различий между ростом и размножением, то на самом деле Янзен не так уж ошибался. Для одних задач различия могут быть важными, а для других — нет. При обсуждении каких-то экологических или прикладных вопросов разница между ростом и бесполым размножением может быть несущественной. Сестринскую общину тлей и в самом деле можно уподобить одному медведю. Но для других задач, для разговора об эволюционном становлении сложной организации разница будет принципиальной. Возможно, какой-то эколог, сравнив поляну, усеянную одуванчиками, с одним деревом, придет к озарению. Но в других случаях бывает важно понимать, в чем различия, и считать аналогом дерева каждый отдельный рамет.
Как бы то ни было, точка зрения Янзена довольно нетипична. Обычному биологу покажется неверным рассматривать бесполое размножение тлей как рост. Точно таким же неправильным покажется ему и наше с Харпером намерение считать ростом, а не размножением расселение при помощи многоклеточных вегетативных отпрысков. Наше мнение основывается на том, что отпрыск — это многоклеточная меристема, а не одноклеточная пропагула, но почему мы должны считать этот момент существенным? И снова ответ станет ясен из мысленного эксперимента с участием двух вымышленных видов растений. На сей раз они будут напоминать землянику; назовем их многоклетник и одно-клетник (Dawkins, 1981).
Оба этих гипотетических земляникообразных вида воспроизводятся вегетативно, отростками. В обоих случаях популяция представлена различимыми внешне «растениями», которые соединены сетью этих самых отростков. Как у одного, так и у другого вида каждое «растение» (т. е. рамет) может дать начало более чем одному дочернему растению, так что существует возможность для экспоненциального роста «популяции» (или «организма», в зависимости от ваших убеждений). Несмотря на отсутствие полового процесса, эволюция может идти благодаря мутациям, возникающим время от времени при митотических делениях клеток (Whitham & Slobodchikoff, 1981). А теперь переходим к ключевому различию между нашими видами. У многоклетника отросток образован широким участком многоклеточной меристемы (отсюда и название). Это означает, что две клетки одного «растения» могут быть митотическими потомками двух разных клеток растения-родителя. Таким образом, клетка одного растения и клетка другого растения могут быть по своему происхождению большей родней друг другу, чем две клетки одного растения. Если мутация привнесет в популяцию клеток генетическую неоднородность, то отдельные растения могут оказаться генетическими мозаиками, так что некоторые их клетки будут состоять с клетками других растений в более тесном родстве, чем с клетками «своего» растения. Очень скоро мы увидим, какие эволюционные последствия это будет иметь. Но сначала давайте взглянем на второй из придуманных мною видов.
Одноклетник ничем не отличается от многоклетника, за исключением того что каждый отросток завершается у него одной-единственной верхушечной клеткой. Эта клетка становится исходным митотическим предшественником всех клеток дочернего растения. А значит, какое растение ни возьми, все его клетки будут более родственными друг другу, нежели каким бы то ни было клеткам других растений. Если мутация привнесет в клеточную популяцию генетическую неоднородность, то растения-мозаики будут относительно редким явлением. Напротив, каждое растение, вероятнее всего, будет имеющим единое происхождение клоном, который генетически отличен от одних растений, а другим растениям генетически идентичен. Перед нами будет настоящая популяция растений, каждое из которых характеризуется своим собственным генотипом, единым для всех его клеток. В таком случае позволительно будет говорить и об отборе — в смысле, о том, что я называю «отбором транспортных средств», — действующем на уровне целого растения. Одни растения будут лучше других благодаря своим более удачным генотипам.
У многоклетника генетик вообще не увидит никакой популяции растений, особенно если меристема в отростках идет очень широким фронтом. Он увидит популяцию клеток, у каждой из которых свой генотип. Одни генотипы будут идентичными друг другу, другие различающимися. Возможна некая разновидность естественного отбора между клетками, однако отбор между «растениями» представить себе будет сложновато, поскольку тут «растение» не является единицей, характеризуемой каким-то специфическим генотипом. Скорее уж всю массу растительности придется рассматривать как популяцию клеток, в которой клетки с одинаковыми генотипами как попало разбросаны по разным «растениям». Та единица, которую я называю «транспортным средством для генов», а Янзен — «эволюционным индивидуумом», не может в данном случае быть более крупной, чем клетка. Генетическая борьба будет идти между клетками. Эволюция, видимо, пойдет по пути усовершенствования строения и физиологии клеток, но не очень понятно, каким образом смогло бы осуществляться преобразование отдельных растений и их органов.
Кто-то, вероятно, решит, что эволюционные улучшения структуры органов могли бы происходить, если бы в определенных участках растения отдельные группы клеток постоянно оказывались клоном, митотическим потомством одной клетки. Допустим, отросток, дающий начало новому растению, весь представляет собой одну гигантскую меристему. Тем не менее, это нисколько не мешает каждому листу возникать в результате деления одной клетки, расположенной у его основания. Получается, что лист может быть клоном, клетки которого связаны друг с другом более тесным родством, чем с какими-либо другими клетками данного растения. Учитывая, что у растений соматические мутации — самое обычное дело (Whitham & Slobodchikoff, 1981), нельзя ли допустить возможность эволюции сложных приспособлений если не на уровне целого растения, так на уровне листа? Раз теперь генетик четко видит генетически разнородную популяцию листьев, каждый из которых состоит из клеток с одинаковыми генотипами, возможен ли естественный отбор, благоприятствующий успешным листьям за счет неуспешных? Если бы ответ на этот вопрос был положительным, было бы неплохо. Это означало бы, что отбор транспортных средств может идти на любом уровне иерархии многоклеточных единиц при условии, что клетки в составе каждой единицы генетически более родственны друг другу, чем клеткам из других многоклеточных единиц того же уровня. К сожалению, однако, кое-чего подобные умозаключения не учитывают.
Пришло время вспомнить мое разделение реплицирующихся объектов на репликаторы зародышевого пути и тупиковые репликаторы. В результате естественного отбора какие-то репликаторы становятся многочисленнее своих соперников, но к эволюционным изменениям это приводит лишь тогда, когда репликаторы находятся в зародышевых линиях. Многоклеточную единицу можно называть транспортным средством в интересном с эволюционной точки зрения смысле, только если хотя бы в некоторых из ее клеток содержатся репликаторы зародышевого пути. Листья, как правило, транспортными средствами назвать нельзя, поскольку все репликаторы в их клеточных ядрах тупиковые. Клетки листьев синтезируют химические вещества, что в конечном счете приносит пользу другим клеткам, содержащим потенциально бессмертные копии тех генов, которые наделяют листья характерным «листовым» фенотипом. Но мы не можем согласиться с выводом предыдущего абзаца, что для отбора транспортных средств на уровне листьев, и вообще на уровне органов, достаточно того, чтобы клетки из одного органа состояли друг с другом в более тесном митотическом родстве, чем клетки из разных органов. Межлистовой отбор мог бы иметь эволюционные последствия только в том случае, если бы листья напрямую порождали новые листья. Но листья — это органы, а не организмы. Для отбора на уровне органов необходимо, чтобы органы обладали собственной зародышевой линией клеток и собственным размножением, чего обычно не бывает. Размножение — прерогатива организмов, а органы только их составные части.
В погоне за доходчивостью я немножко ударился в крайности. Между двумя моими похожими на землянику растениями возможен целый спектр промежуточных вариантов. Было сказано, что отросток многоклетника представляет собой идущую широким фронтом меристему, в то время как у одноклетника он, перед тем как дать начало новому растению, сужается до одноклеточного «бутылочного горлышка». А что, если мы представим себе некий промежуточный вид, у которого это «горлышко», из которого вырастает новое растение, сужено не до одной, а до двух клеток? Тут возможны два сценария. Если развитие организма протекает таким образом, что предсказать, от какой из двух стволовых клеток произойдут те или иные клетки растения, невозможно, тогда все, что я здесь говорил по поводу важности «ширины горлышка», будет по-прежнему справедливо, но просто менее ярко выражено. В популяции таких растений могут встречаться генетические мозаики, но при этом сохранится и общая статистическая тенденция к тому, чтобы клетки одного растения были более близкородственными друг другу, чем клеткам других растений. Следовательно, по-прежнему будет небессмысленно говорить об отборе транспортных средств, идущем между растениями в популяции растений, но давление этого межорганизменного отбора должно быть достаточно мощным для того, чтобы пересиливать отбор, который идет между клетками в пределах растения. Кстати говоря, это аналогично одному из условий, необходимых для действия «отбора между родственными группами» (Hamilton, 1975а). Чтобы провести эту аналогию, достаточно просто взглянуть на растение, как на «группу клеток».
Вторая возможность, вытекающая из допущения о двухклеточном «бутылочном горлышке», — это такая модель развития, при которой некоторые органы растений данного вида всегда ведут свое происхождение от какой-то одной определенной клетки-родоначальницы из двух. Например, корневая система развивается благодаря митотическим делениям клетки, находящейся на нижней стороне отростка, а все остальные части растения образуются из другой клетки, расположенной сверху. И если при этом «нижняя» клетка всегда происходит от какой-то из клеток корня, а «верхняя» всегда берется от надземной части растения, то ситуация получится любопытной. Во всей популяции клетки корня будут состоять с клетками других корней в родстве более тесном, чем с клетками стебля и листьев «своего собственного» растения. Мутационный процесс даст материал для эволюции, но эволюция эта будет разобщенной. Подземные и надземные генотипы могут эволюционировать в разных направлениях, независимо от того, что будут, очевидным образом, входить в состав обособленных «растительных организмов». Теоретически это может привести даже к некоему внутриорганизменному «видообразованию».
Итак, суть различия между ростом и размножением сводится к тому, что размножение дает возможность для нового начала, нового цикла развития и нового организма, у которого базовые принципы устройства сложных структур могут быть усовершенствованы по сравнению с предшественником. Разумеется, какое-то преобразование может и не быть усовершенствованием, и тогда его генетическая подоплека будет элиминирована естественным отбором. Но при одном только росте без размножения отсутствует сама возможность кардинальных изменений на уровне органов — ни в сторону улучшения, ни в обратном направлении. Рост без размножения допускает разве что поверхностные, «косметические» преобразования. Вы можете из развивающегося «бентли» вырастить взрослый «роллс-ройс», подключившись к процессу сборки на поздней стадии установки радиатора. Но для того чтобы превратить в «роллс-ройс» «форд», вам придется начинать с чертежной доски, до того как машина вообще начнет свой «рост» на конвейере. Роль периодических жизненных циклов — а следовательно, и организмов — в том, что они делают возможными регулярные возвраты к чертежной доске в ходе эволюции.
Тут мы должны остерегаться ереси «биотического адаптационизма» (Williams, 1966). Мы увидели, что повторяющиеся репродуктивные жизненные циклы, т. е. организмы, делают возможной эволюцию сложных органов. Чрезмерно просто будет, однако, счесть это достаточным адаптационным объяснением существования организменных жизненных циклов, основываясь на том соображении, что сложные органы — это, вообще говоря, неплохая идея. Аналогичным образом, повторяющиеся репродуктивные циклы требуют, чтобы индивидуумы умирали (Maynard Smith, 1969), но это не должно подталкивать нас к мысли, будто смерть индивидуумов является приспособлением для поддержания эволюции! То же самое можно было бы сказать и о мутациях. Их наличие — необходимое условие эволюционного процесса, и, несмотря на это, весьма вероятно, что естественный отбор благоприятствовал эволюции в направлении нулевой частоты мутаций — к счастью, так и не достигнутой (Williams, 1966). Появление жизненного цикла типа рост/размножение/смерть — он же жизненный цикл типа «многоклеточный клон, именуемый организмом» — имело серьезные последствия и было, вероятно, решающим фактором эволюции приспособительных усложнений, но это не объясняет приспособительного значения самого такого жизненного цикла. Дарвинист должен первым делом поинтересоваться, какую непосредственную выгоду получают гены, обусловливающие этот тип жизненного цикла, по сравнению с аллелями-соперниками. Не исключено, что ему придется признать возможность отбора на каких-то других уровнях — скажем, дифференциальное вымирание филогенетических линий. Но в этой сложной теоретической области он должен проявлять ту же настороженность, с какой Фишер (Fisher, 1930а), Уильямс (Williams, 1975) и Мэйнард Смит (Maynard Smith, 1978а) относились к похожим попыткам объяснить существование полового размножения тем, что оно ускоряет эволюцию.
Для организма характерны следующие признаки. Он либо одноклеточный, либо, если он многоклеточный, его клетки состоят в тесном генетическом родстве — все они потомки одной исходной клетки и, следовательно, имеют друг с другом более близкого общего предка, чем с клетками любого другого организма. Организм — это единица, жизненный цикл которой, каким бы замысловатым он ни был, повторяет в общих чертах предыдущие жизненные циклы и может быть их улучшенным вариантом. Организм либо состоит из клеток зародышевого пути, либо содержит их в числе своих клеток. Либо же, как в случае со стерильными рабочими у общественных насекомых, он находится на положении помощника, способствующего благополучию половых клеток своих близких родственников.
Я не стремился в этой заключительной главе дать исчерпывающий ответ на вопрос, почему существуют многоклеточные организмы. Я буду доволен, если у меня получится раздразнить чье-то любопытство. Вместо того чтобы принимать существование организмов как должное и интересоваться, какую выгоду им приносят адаптации, я попытался показать, что к их существованию следует относиться как к феномену, который сам по себе требует объяснения. Репликаторы существуют. Это основополагающий факт. Можно предполагать, что фенотипические, в том числе расширенно-фенотипические, проявления репликаторов будут инструментами, служащими для поддержания их существования. Организмы — это огромные и сложно организованные наборы таких инструментов, находящиеся в совместном пользовании целых группировок репликаторов. Этим репликаторам в принципе не обязательно было объединяться, однако в реальности они объединяются и разделяют друг с другом заинтересованность в выживании и размножении своего организма. Помимо привлечения внимания к организму как к явлению, нуждающемуся в истолковании, я в последней главе этой книги попытался нащупать и общее направление, в котором мы могли бы поискать ответ. Это всего лишь черновой набросок, но на всякий случай давайте подытожим его содержание.
Существующие репликаторы — это, как правило, те, у которых хорошо получается манипулировать миром в своих интересах. При этом они используют возможности, которые предоставляет им их окружение, а важным компонентом окружающей среды репликатора являются другие репликаторы и их фенотипические проявления. Успешными оказываются те репликаторы, чьим полезным фенотипическим эффектам способствует присутствие часто встречающихся других репликаторов. Последние также являются успешными, иначе они не встречались бы часто. Таким образом, мир стремится быть населенным командами совместимых друг с другом репликаторов — репликаторов, которые хорошо ладят. В принципе это относится и к репликаторам, принадлежащим к различным генофондам — из разных видов, классов, типов и царств. Но особенно интимные, отличающиеся крайней степенью взаимной совместимости отношения возникли между теми репликаторами, которые находятся в одних и тех же клеточных ядрах и — если наличие полового размножения позволяет употребить это слово — в одних и тех же генофондах.
Клеточное ядро как совокупность непросто сосуществующих репликаторов — явление, само по себе заслуживающее внимания. Столь же поразительным, и вполне самостоятельным, является феномен многоклеточного клона — индивидуального организма. Те репликаторы, которые взаимодействуют с другими репликаторами, формируя многоклеточные организмы, приобретают себе транспортные средства со сложными органами и схемами поведения. Сложные органы и поведенческие схемы дают преимущество в гонке вооружений. Их возникновение стало возможным благодаря тому, что для организмов характерен периодически повторяющийся клеточный цикл, который каждый раз начинается с одной-единственной клетки. То, что в каждом поколении этот «узкогорлый» цикл запускается заново, позволяет мутациям приводить к радикальным эволюционным изменениям благодаря «возвращению к чертежной доске» при эмбриологическом конструировании. Кроме того, в ситуации, когда усилия всех генов направлены на благополучие одной на всех зародышевой линии, не столь велик «соблазн» для генов-отщепенцев действовать в своих частных интересах, противоречащих интересам общего дела. Единый индивидуальный организм — это явление, возникшее вследствие естественного отбора, воздействовавшего на изначально независимые эгоистичные репликаторы и поощрявшего общительность. Фенотипические проявления, с помощью которых репликаторы обеспечивают свое выживание, в принципе способны распространяться безгранично. Но на практике возник индивидуальный организм — обладающий частичной автономией силовой узел, в котором сходятся воздействия многих репликаторов.
| <<< Назад Глава 13. Действие на расстоянии |
Вперед >>> Послесловие. Дэниел Деннет |
- Предисловие научного редактора
- Предисловие
- Примечание ко второму изданию
- Глава 1 Куб Неккера и буйволы
- Глава 2. Генетический детерминизм и генный селекционизм
- Глава 3. Пределы совершенства
- Глава 4. Манипуляции и гонка вооружений
- Глава 5. Активный репликатор зародышевого пути
- Глава 6. Организмы, группы и мемы: репликаторы или транспортные средства?
- Глава 7. Эгоистичная оса или эгоистичная стратегия?
- Глава 8. Отщепенцы и модификаторы
- Глава 9. Эгоистичная ДНК, скачущие гены и призрак ламаркизма
- Глава 10. Головная боль в пяти «приступособлениях»
- Глава 11. Генетическая эволюция артефактов животных
- Глава 12. Гены паразитов — фенотипы хозяев
- Глава 13. Действие на расстоянии
- Глава 14. Заново открывая организм
- Послесловие. Дэниел Деннет
- Список цитированной литературы
- Список рекомендуемой литературы
- Содержание книги
- Популярные страницы
- 4. Гомеостаз — поддержание внутренней среды организма
- 7. СТРОЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ
- § 47. Раздражимость и движение организмов
- § 46. Типы обмена веществ у организмов
- 2. Систематика и номенклатура микроорганизмов
- Глава 4. ОСНОВНЫЕ СРЕДЫ ЖИЗНИ И АДАПТАЦИИ К НИМ ОРГАНИЗМОВ
- Глава 3. ВАЖНЕЙШИЕ АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И АДАПТАЦИИ К НИМ ОРГАНИЗМОВ
- ЛЕКЦИЯ № 4. Генетика микроорганизмов. Бактериофаги
- Глава 2. ОРГАНИЗМ И СРЕДА. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
- Микроорганизмы в воде
- Глава 12 Распространенность микроорганизмов
- Человек и микроорганизмы