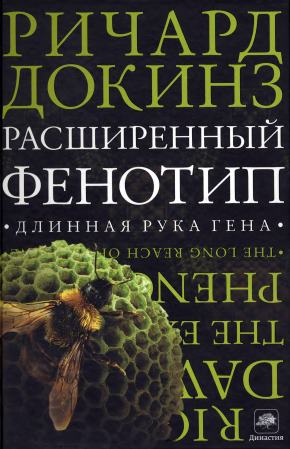Книга: Расширенный Фенотип: длинная рука гена
Глава 4. Манипуляции и гонка вооружений
| <<< Назад Ошибки, связанные с непредсказуемостью окружающей среды и «недоброжелательностью» |
Вперед >>> Глава 5. Активный репликатор зародышевого пути |
Глава 4. Манипуляции и гонка вооружений
Одна из целей данной книги заключается в том, чтобы подвергнуть сомнению «центральную теорему», согласно которой имеет смысл ожидать от индивидуальных организмов такого поведения, которое будет максимально увеличивать их совокупную приспособленность или, другими словами, максимизировать выживание копий тех генов, что в них находятся. В конце предыдущей главы намечается один из способов попрания центральной теоремы. Возможно, порой организмы совершают последовательные действия, более выгодные другим организмам, нежели им самим. Иначе говоря, подвергаются манипуляциям.
Тот факт, что одни животные нередко бывают принуждаемы другими к выполнению действий, направленных против собственных важнейших интересов, разумеется, хорошо известен. Это, очевидно, случается всякий раз, когда удильщик заглатывает добычу или когда кукушонок получает пищу от своей приемной матери. В данной главе я воспользуюсь обоими этими примерами, но подчеркну при этом два момента, на которых не всегда делается акцент. Во-первых, обычно подразумевается, что даже если манипулятору и сходят с рук его проделки, то лишь вопрос эволюционного времени в том, чтобы эксплуатируемая группа достойно ответила контрадаптацией. Другими словами, мы склонны предполагать, что манипуляции срабатывают только по причине того ограничения совершенства, которое связано с запаздыванием во времени. В настоящей главе я покажу, что, напротив, при определенных условиях манипуляторы могут поддерживать свой успех в течение неограниченного эволюционного времени. Я обсужу это явление далее, обозначив его расхожим словосочетанием «гонка вооружений».
Во-вторых, вплоть до последнего десятилетия большинство из нас не уделяли должного внимания возможности манипуляций внутри вида — в особенности внутрисемейной эксплуатации. Я списываю этот пробел на интуитивные остатки группового селекционизма, которые часто таятся в глубинах сознания биологов даже после внешнего изгнания группового отбора из рассуждений. Думаю, в нашем способе мыслить о социальных взаимоотношениях произошла маленькая революция. «Благородные» (Lloyd, 1979) идеи о чуть ли не великодушном взаимовыгодном сотрудничестве сменились на предположения о жесткой, беспощадной, беспринципной взаимной эксплуатации (напр., Hamilton, 1964а, b, 1970, 1971 а; Williams, 1966; Trivers, 1972, 1974; Ghiselin, 1974 а; Alexander, 1974). В массовом сознании эта революция получила название «социобиология», хотя здесь и присутствует элемент иронии, поскольку, как я уже ранее отмечал, выдающаяся книга Уилсона (Wilson, 1975), озаглавленная этим же словом, является во многих отношениях предреволюционной: не новая концепция, но последнее и величайшее обобщение старого доброго времени (напр., глава 5 его книги).
Перемену взглядов можно проиллюстрировать цитатой из недавней работы — занимательного обзора Ллойда (Lloyd, 1979) о грязных сексуальных уловках у насекомых:
Отбор самцов по признаку неразборчивости, а самок — стыдливости ведет в итоге к соперничеству между полами. Среди самцов могут отбираться те, кому удастся обойти стремление самки устроить честный конкурс, после чего самки будут отбираться по способности удерживать за собой право выбора, не давать сбить себя с толку и навязать себе решение. Если самцы подчиняют и соблазняют самок с помощью самых настоящих возбуждающих препаратов (доказательства чему Ллойд приводит в своей работе. — Р. Д.), то можно ожидать, что рано или поздно в эволюционном масштабе самки выкрутятся. А сперма, оказавшись в самке, сразу же становится объектом для манипуляций. Самка может хранить ее, перемещать (из одного компартмента в другой), использовать, съедать или подвергать деградации — в зависимости от своих дальнейших наблюдений за самцами. Самки могут принять сперму от самца и хранить ее в качестве гарантии того, что у них есть супруг, а затем стать привередливыми… Манипулирование спермой внутри самки вполне возможно (напр., определение пола у перепончатокрылых). Морфология женской репродуктивной системы зачастую включает в себя мешочки, клапаны и трубы, возникшие, может быть, в этом контексте. В сущности, и некоторые известные примеры конкуренции между сперматозоидами на самом деле могут являться примерами манипуляции ими… Признав, что самки в той или иной степени нарушают интересы самцов, распоряжаясь эякулятом по собственному усмотрению, вряд ли мы сочтем невероятной эволюцию у самцов всевозможных открывалок, ножничек, рычажков и шприцев для проникновения в места, «предназначавшиеся» самками для спермы, которая будет использована в первую очередь, — в общем, получается настоящий швейцарский армейский нож с кучей приспособлений!
Такой несентиментальный, называющий вещи своими именами язык давался биологам с трудом еще несколько лет назад, но я рад отметить, что сегодня он преобладает в учебниках (напр., Alcock, 1979) — К подобным грязным уловкам нередко относится непосредственное воздействие: мускулы одного индивидуума сокращаются с целью досадить телу другого. Однако данная глава посвящена манипуляциям не столь прямым и более коварным. Один индивидуум побуждает эффекторы другого действовать против собственных кровных интересов в интересах манипулятора. Одним из первых, кто отметил важность такого рода манипуляций, был Александер (Alexander, 1974). Он развил свою концепцию преобладающего влияния матки на эволюцию поведения рабочих особей у общественных насекомых и создал всеобъемлющую теорию «родительского манипулирования» (см. также Ghiselin, 1974 а). Он предположил, что родители обладают такой властью над потомством, что вполне могут заставить потомство работать в интересах генетической приспособленности родителей, даже если это противоречит его собственной приспособленности. Уэст-Эбер-хард (West-Eberhard, 1975), развивая мысль Александера, удостаивает родительское манипулирование чести называться одним из трех генеральных направлений, по которым может эволюционировать индивидуальный «альтруизм»[35] (два других — родственный отбор и реципрокный альтруизм). Ридли и я приходим к тем же выводам, но не ограничиваемся родительским манипулированием (Ridley & Dawkins, 1981).
Наши доводы состоят в следующем. Биологи называют альтруистическим такое поведение, которое благоприятствует другим особям за счет самого альтруиста. В связи с этим возникает вопрос, как определять выгоды и затраты. Если оценивать их с точки зрения выживания индивидуумов, то акты альтруизма будут, вероятно, очень распространенным явлением, и к ним надо будет отнести также заботу о потомстве. Если определять их в показателях репродуктивного успеха особи, тогда забота о потомстве уже не будет считаться альтруизмом, но, исходя из теории неодарвинизма, можно будет ожидать альтруистических актов по отношению к другим родственникам. Если же оценивать выгоды и затраты в терминах индивидуальной совокупной приспособленности, то ни забота о потомстве, ни забота о других генетических родственниках не будет считаться альтруизмом, — более того, если воспринимать теорию буквально, то альтруизма вообще не должно существовать. Все три точки зрения могут быть правомерны, хотя лично я, говоря об альтруизме вообще, предпочел бы первое определение — то, которое позволяет рассматривать заботу о потомстве как разновидность альтруизма. Но здесь я хочу сказать, что какое бы определение мы ни взяли, оно подойдет и к тем случаям, когда тот, кто пользуется благодеяниями, заставляет «альтруиста» пойти на жертвы — манипулирует им. Например, по определению (любому из трех) кормление кукушонка его приемным родителем — не что иное, как проявление альтруизма. Возможно, нам необходимо принципиально новое определение, но это уже другая проблема. Кребс и я доводим эту аргументацию до логического завершения и полагаем, что при любой коммуникации между животными отправитель сигнала манипулирует получателем (Dawkins & Krebs, 1978).
Несомненно, во взгляде на жизнь, который излагается в этой книге, манипуляции являются важнейшей составляющей, и есть легкая ирония в том, что я был одним из тех, кто критиковал предложенную Александером концепцию родительского манипулирования (Dawkins, 1976 а, р.145–148; Blick, 1977; Parker & Macnair, 1978; Krebs & Davies, 1978; Stamps be Metcalf, 1980), за что, в свою очередь, сам был подвергнут критике (Sherman, 1978; Harpending, 1979; Daly, 1980). Вопреки своим защитникам Александер (Alexander, 1980, р. 38–39) признал, что его критики правы.
Безусловно, нужно внести некоторую ясность. Ни я, ни кто-либо из упомянутых здесь более поздних критиков не сомневались в том, что отбор будет благоприятствовать родителям, умеющим манипулировать своим потомством, больше, чем не умеющим. Не сомневались мы также и в том, что во многих случаях родители могут «выигрывать гонку вооружений» в борьбе с потомством. Возражали мы исключительно против логики, согласно которой родители заведомо обладают преимуществом перед детьми просто потому, что все дети стремятся стать родителями. Это не более верно, чем то, что дети заведомо обладают преимуществом просто потому, что все родители когда-то были детьми. Александер предположил, что эгоистические наклонности в &тях — стремление действовать против интересов родителей — не смогут распространиться, поскольку, когда детеныш вырастет, унаследованная эгоистичность его собственных детенышей будет направлена против него и снизит его репродуктивный успех. Это вытекало из убежденности Александера в том, что «вся система взаимоотношений родитель — детеныш возникла потому, что была выгодна одному из участников — родителю. Никакой организм не смог бы выработать у себя родительское поведение или усилить заботу о потомстве, если бы благодаря этому не выигрывало его самовоспроизводство» (Alexander, 1974, р.340). Таким образом, Александер рассуждал строго в рамках парадигмы эгоистичного организма. Он придерживался центральной теоремы, что животные действуют в интересах своей совокупной приспособленности, и расценивал это как препятствие для действий &теныша против родительских интересов. Но мне бы хотелось взять на вооружение у Александера его признание огромного значения самого явления манипуляции, что, на мой взгляд, дискредитирует центральную теорему.
Я считаю, что одни животные обладают мощной властью над другими и что нередко действия животного целесообразнее всего истолковывать как совершающиеся в интересах совокупной приспособленности другой особи, а не в своих собственных. Далее в этой книге мы сможем обходиться вообще без концепции совокупной приспособленности, а наука о манипулировании найдет свое место под крылом теории расширенного фенотипа. Но до конца настоящей главы вполне приемлемо обсуждать манипуляции на уровне индивидуального организма.
Здесь неизбежны пересечения со статьей, написанной мною в соавторстве с Кребсом, в которой сигналы животных рассматриваются как форма манипуляции (Dawkins & Krebs, 1978). Прежде чем продолжать, я считаю своим долгом сообщить, что статья эта подверглась суровой критике со стороны Хинда (Hinde, 1981). На некоторые из его замечаний, не касающиеся тех фрагментов статьи, которые я собираюсь использовать здесь, ответил Кэрил (Caryl, 1982), также подвергавшийся критике Хинда. Хинд призвал нас к ответу за пристрастность, поскольку мы процитировали утверждения, носившие характер откровенного группового селекционизма, из Тинбергена (Tinbergen, 1964) и других авторов, названных нами, за неимением лучшего титула, классическими этологами. Мне симпатичен такой исторический подход в критике. Отрывок о «пользе для вида», взятый нами у Тинбергена, был подлинным, но, я согласен, не характерным для его образа мыслей в тот период (см., например, Tinbergen, 1965). Возможно, эта, более ранняя, цитата из Тинбергена покажется не столь предвзятой: «…Подобно тому как функционирование гормонов и нервной системы подразумевает не только передачу сигналов, но и специфическую способность органа-мишени реагировать на них, точно так же и общение включает в себя специфическую способность восприятия определенных сигналов, а не только специфическую тенденцию инициатора общения посылать их. Система обмена сигналами объединяет организмы в комплексы надындивидуального порядка, которые становятся предметом для естественного отбора на более высоком уровне» (Tinbergen, 1954). Пусть в начале 1960-х неприкрытый групповой селекционизм и был встречен в штыки Тинбергеном и большинством его учеников, но я все же думаю, что почти каждый из нас рассуждал о сигнализации у животных, исходя из смутных представлений о «взаимной выгоде»: если сигналы существуют и не совсем «для пользы вида» (как это было в нетипичной цитате из Тинбергена), то, значит, «для взаимной выгоды отправителя и получателя сигнала». Эволюция ритуализованных сигналов считалась обоюдной: усиление сигнала с одной стороны сопровождается повышением восприимчивости к нему с другой.
Теперь мы могли бы заметить, что в случае повышения восприимчивости сигналу нет необходимости усиливаться — напротив, вероятнее всего, он будет уменьшаться в связи с тем, что яркие или громкие сигналы влекут дополнительные затраты. Это можно назвать принципом сэра Адриана Боулта. Однажды на репетиции сэр Адриан обратился к альтам с просьбой играть громче. «Но, сэр Адриан, — запротестовал ведущий альтист, — вы ведь все меньше и меньше махали своей палочкой!» «Наша цель, — парировал маэстро, — в том, чтобы я махал все меньше, а вы бы играли все громче». В тех случаях, когда сигналы животных действительно взаимовыгодны, они будут падать до уровня заговорщицкого шепотка — возможно, часто случалось так, что в итоге сигнал оказывался просто незаметным для нас. С другой стороны, если сила сигнала из поколения в поколение возрастает, то это заставляет нас предположить, что со стороны получателя идет снижение восприимчивости (Williams, 1966).
Как уже было сказано, животное совсем не обязательно будет пассивно смиряться с тем, что им манипулируют, и можно ожидать развертывания эволюционной «гонки вооружений». Гонка вооружений была предметом второй нашей совместной работы (Dawkins & Krebs, 1979). Разумеется, мы не были первыми, кто пришел к излагаемым далее в этой главе выводам, но тем не менее здесь будет уместно привести отрывки из двух наших совместных работ. С позволения доктора Кребса я сделаю это, не прерывая хода мысли повторяющимися библиографическими ссылками и кавычками.
Животному часто нужно манипулировать объектами окружающего мира. Голубь приносит веточки в свое гнездо. Каракатица поднимает песок со дна, чтобы обнаружить добычу. Бобр валит &ревья и с помощью плотины манипулирует целым ландшафтом на мили вокруг своей хатки. Если манипулируемый объект неживой или по крайней мере несамоходный, то у животного нет иного пути, кроме как передвигать его, используя грубую силу. Навозный жук может перемещать шарик навоза, только самостоятельно его толкая. Но иногда животному может быть выгодно перемещать «объект», который сам является живым существом. У этого объекта есть собственные мышцы и конечности, находящиеся под контролем нервной системы и органов чувств. Передвигать такой «объект» с помощью грубой силы по-прежнему возможно, но зачастую достижение цели более тонкими средствами будет экономичнее. Управляющие объектом внутренние «инстанции» — органы чувств, нервная система, мускулатура — могут быть захвачены и подчинены. Самец-сверчок не волочит самку по земле к себе в нору. Он сидит и поет, а самка приходит к нему добровольно. С его точки зрения, подобная коммуникация энергетически более целесообразна, чем попытки взять самку силой.
Мгновенно возникает вопрос. Почему же самка все это терпит? Раз она сама управляет своими мускулами и конечностями, то будет ли она приходить к самцу, если это не в ее генетических интересах? Разумеется, слово «манипуляция» уместно только в тех случаях, когда жертва против. Разумеется, сверчок просто информирует самку о благоприятном для нее факте, что поблизости находится самец, относящийся к ее виду, полный готовности и желания. Разве, сообщив эту информацию, он не предоставляет ей самой решать, приближаться к нему или нет, в зависимости от ее желания или же от того, как она запрограммирована естественным отбором?
Славно, когда интересы самцов и самок полностью совпадают, но рассмотрим основное допущение последнего абзаца. Что дает нам право заявлять, будто самка «сама управляет своими мускулами и конечностями»? Не является ли это бездоказательным ответом на тот самый вопрос, который мы обсуждаем? Выдвигая гипотезу о манипулировании, мы фактически предполагаем, что самка, возможно, не контролирует свои собственные мышцы и конечности — в отличие от самца. Конечно, можно истолковать этот пример наоборот и сказать, что самка манипулирует самцом. Излагаемая мысль не имеет никакой особой «привязки» к полу. Я мог бы взять в качестве примера растения, не имеющие собственных мускулов и использующие мускулы насекомых в качестве эффекторных органов для переноса пыльцы, работающих на топливе, называемом нектаром (Heinrich, 1979). Основная идея здесь в том, что составные части одного организма могут — в силу того что ими манипулируют — работать в интересах генетической приспособленности другого организма. Данное утверждение нельзя сделать убедительным до тех пор, пока далее в этой книге не будет изложена идея расширенного фенотипа. В настоящей главе мы продолжаем оставаться в рамках концепции эгоистичного организма, хотя и начинаем распирать ее так, что она угрожающе трещит по швам.
Возможно, мой пример со сверчками был выбран неудачно, поскольку, как я уже говорил выше, многие из нас только недавно стали привыкать к мысли, что взаимоотношения полов — это битва. Многим из нас еще нужно осознать тот факт, что «отбор может способствовать противостоянию между полами. Обычно при рассматриваемом типе отношений выигрывают самцы, стремящиеся к спариванию, и самки, уклоняющиеся от него» (Parker, 1979; см. также West-Eberhard, 1979). К этому я еще вернусь, но сейчас давайте воспользуемся более ярким примером манипулирования. Абсолютно беспощадными, как и подобает битве, в природе являются отношения между хищником и жертвой. Хищник может поймать свою жертву с помощью разных приемов: догнать ее, изнурить или неожиданно наброситься. Он может также оставаться на одном месте, чтобы устроить засаду или ловушку. Или он может пойти путем удильщиков и светляков-«роковых женщин» (Lloyd, 1975, 1981), так воздействуя на нервную систему жертвы, что та сама активно приближает свою кончину. Морской черт лежит на дне, полностью закамуфлированный, за исключением выступающего у него из головы длинного удилища, на конце которого имеется «приманка» — гибкий участок ткани, выглядящий аппетитно, как, скажем, червяк. Мелких рыбок, которыми питается удильщик, привлекает приманка, напоминающая им их собственных жертв. Он «заманивает» их поближе к своей пасти, затем резко раскрывает челюсти и засасывает жертву с потоком воды. Вместо того чтобы активно преследовать добычу с использованием массивных мышц туловища и хвоста, морской черт бережливо пользуется маленькими мускулами, управляющими удилищем, воздействуя на нервную систему жертвы через ее глаза. В конечном итоге для сокращения расстояния между собой и добычей удильщик использует мышцы самой добычи. Кребс и я позволили себе определить «коммуникацию» животных как средство, благодаря которому одно животное может пользоваться мускульной силой другого. А это приблизительно то же, что и манипуляция.
Возникает все тот же вопрос. Почему жертва манипуляции это терпит? Почему рыбка в буквальном смысле спешит навстречу собственной гибели? Потому что она «думает», что действительно нашла себе поесть. Или, если выражаться более строго, естественный отбор, действовавший на ее предков, благоприятствовал склонности приближаться к мелким извивающимся объектам, так как мелкий извивающийся объект — это, как правило, червяк. Но поскольку это может быть и не червяк, а приманка удильщика, то у рыбок вполне возможен некоторый отбор на осторожность или на оттачивание способности отличать одно от другого. Учитывая, что приманка хорошо имитирует червя, можно предположить, что отбор действовал и на предков морских чертей, совершенствуя ее по мере повышения внимательности у добычи. Некоторые из жертв попадаются, и удильщикам вполне хватает пропитания — а значит, некоторые манипуляции, будучи успешными, продолжаются из поколения в поколение.
Метафорой «гонка вооружений» удобно пользоваться в тех случаях, когда имеют место постепенные усовершенствования адаптаций у одних животных как эволюционный ответ на прогрессирующие контрадаптации у их врагов. Тут важно понимать, что представляют собой «соревнующиеся стороны». Это не особи, а ряды поколений. Конечно же, именно особи нападают и защищаются, особи убивают или не дают себя убить. Но гонка вооружений происходит в эволюционном масштабе времени, а особи не эволюционируют. Эволюционируют филогенетические линии — именно они проявляют постепенные изменения в ответ на давление отбора, вызванное постепенными усовершенствованиями в других филогенетических линиях.
Если в ряду поколений у одних животных вырабатываются приспособления для манипулирования поведением других животных, то у последних в ряду поколений будут возникать контрадаптации. Очевидно, было бы интересно выяснить какие-то общие правила, в соответствии с которыми одна из филогенетических линий должна «победить» или иметь заведомое преимущество. Именно таким преимуществом, по мнению Александера, обладают родители перед потомством. Помимо своего главного теоретического аргумента — признанного, как мы видели, неубедительным — Александер высказал много правдоподобных примеров практического превосходства родителей над детьми: «…Родитель крупнее и сильнее детеныша — а следовательно, находится в более выигрышном положении, чтобы навязать свою волю» (Alexander, 1974). Это верно, но мы не должны забывать ту высказанную в предыдущем абзаце мысль, что гонка вооружений протекает в эволюционном масштабе времени. В каждом отдельном поколении мышцы у родителя сильнее, чем у детеныша, и тот, кому они подчиняются, должен получить преимущество. Но весь вопрос в том, кому подчиняются родительские мышцы? Как выразился Трайверс (Trivers, 1974), «детеныш не может, когда ему вздумается, уложить свою мать на землю и пососать молоко… От потомства можно ждать применения не столько физических, сколько психологических тактик».
Кребс и я предположили, что сигналы животных можно рассматривать в качестве применения психологических тактик примерно так же, как и рекламу у людей. Реклама существует не затем, чтобы информировать или дезинформировать, а чтобы убеждать. Создатель рекламы, используя знание человеческой психологии — надежд, страхов и тайных побуждений целевой аудитории, разрабатывает объявление, эффективно манипулирующее человеческим поведением. Сделанное Пэкардом (Packard, 1957) разоблачение продуманных психологических методик в коммерческой рекламе — захватывающее чтиво для этолога. Приведу высказывание менеджера супермаркета: «Покупатель любит видеть много товара. Если на полке всего три или четыре банки одного продукта, их никогда не купят». Напрашивающаяся аналогия с совместными брачными демонстрациями у птиц не теряет своей ценности только из-за того, что физиологические механизмы этого явления могут оказаться различными в двух случаях. Скрытые камеры, фиксировавшие частоту моргания у домохозяек в супермаркетах, показали, что в некоторых случаях множество ярко окрашенных упаковок вызывает состояние легкого гипноза.
К. Нельсон как-то на конференции прочел лекцию, озаглавленную «Птичье пение — это музыка? Значит, язык? Тогда что же это?» Возможно, птичье пение скорее сродни гипнотическому убеждению или наркотическому воздействию. У Джона Китса песня соловья вызвала сонливое оцепенение: «…точно я цикуту пью»[36]. Не может ли ее воздействие на нервную систему другого соловья быть еще более мощным? Если нервные системы через обычные органы чувств могут поддаваться влияниям, напоминающим наркотические, то не должны ли мы несомненно ожидать, что естественный отбор будет благоприятствовать использованию этой возможности, то есть возникновению зрительных, обонятельных и слуховых «наркотиков»?
Нейрофизиолог, когда ему необходимо манипулировать поведением животного со сложно организованной нервной системой, может вводить электроды в восприимчивые участки мозга и стимулировать их электрически или же делать точечные повреждения. Животное обычно не располагает прямым доступом к мозгу другого животного, хотя в главе 12 я и приведу один пример — так называемого мозгового червя. Но глаза и уши — это тоже «входные отверстия» нервной системы, и возможны такие сочетания световых или звуковых сигналов, которые при правильном их использовании окажутся не менее эффективными, чем непосредственная электрическая стимуляция. Грей Уолтер (Grey Walter, 1953) красочно описывает силу действия мигающего света, совпадающего по частоте с человеческой ЭЭГ: в одном из случаев пациент почувствовал «непреодолимое желание задушить находившегося рядом человека».
Если бы нас попросили придумать, как мог бы звучать «слуховой наркотик», — например, для научно-фантастического фильма, — что бы мы предложили? Однообразный ритм африканского барабана? Зловещие трели трубачика Oecanthus, о которых было сказано, что если бы можно было услышать лунный свет, то он звучал бы именно так (цит. по: Bennet-Clark, 1971)? А может, пение соловья? Все три варианта производят впечатление достойных кандидатов, и, по моему мнению, все три разрабатывались (в некотором смысле), преследуя одну и ту же цель: манипулирование нервными системами, принципиально не отличающееся от действий нейрофизиолога с его электродами. Разумеется, влияние издаваемых животными звуков на нервную систему человека может быть случайным. Выдвигаемая здесь гипотеза состоит в том, что отбор формировал эти звуки для манипулирования чьей-то нервной системой, не обязательно человеческой. Возможно, хрюканье свиной лягушки Rana grylio действует на другую свиную лягушку так же, как соловей на Китса или жаворонок на Шелли. И соловей показался мне более удачным выбором только потому, что его пение может вызывать в нервной системе человека глубокие переживания, в то время как фырканье свиных лягушек людям кажется смешным.
Поговорим о других прославленных вокалистах — канарейках, поскольку физиология их репродуктивного поведения хорошо изучена (Hinde & Steel, 1978). Физиолог, который хочет подготовить самку канарейки к размножению — увеличить в размерах ее функционирующий яичник, включить гнездостроительный инстинкт и другие репродуктивные поведенческие схемы — может пойти разными путями. Например, инъецировать ей гонадотропины или эстрогены. Или удлинить ей световой день при помощи электрического освещения. А также — и это для нас сейчас наиболее интересно — он может проиграть ей магнитофонную запись песни самца. Это непременно должна быть песня канарейки — песня волнистого попугайчика не срабатывает, хотя и действует сходным образом на самок волнистого попугайчика.
Теперь предположим, что самец канарейки хочет подготовить самку к размножению, что он может сделать? У него нет шприца, чтобы инъецировать гормоны. Он не может включить вокруг нее искусственное освещение. Что же он делает? Конечно, поет! Определенная последовательность производимых им звуков проникает в голову самки через органы слуха, переводится в нервные импульсы и коварно вмешивается в работу гипофиза. Самцу нет надобности синтезировать и вводить гонадотропины: он заставляет гипофиз самки производить их. Он воздействует на гипофиз посредством нервных импульсов. Это не «его» нервные импульсы в том смысле, что все они возникают в нервных клетках самки. Но в другом смысле они его. Это ему принадлежит хитрая последовательность звуков, сконструированная таким образом, чтобы заставлять нервные клетки самки влиять на ее гипофиз. Там, где физиолог закачал бы самке гонадотропины в грудную мышцу или пустил электрический ток в ее мозг, самец канарейки вливает песню ей в уши. А результат один и тот же. Шляйдт (Schleidt, 1973) приводит и другие примеры такого «тонизирующего» действия сигналов на физиологию их получателя.
«Коварно вмешивается в работу гипофиза» — некоторым читателям это покажется перебором. Конечно, тут возникают серьезные вопросы. Напрашивается возражение, что самка может выигрывать от взаимодействия с самцом не меньше, чем он, а в таком случае слова «коварно» или «манипуляция» уже не подходят. Более того, если манипулирование и имеет здесь место, то, возможно, это самка манипулирует самцом. Может быть, самка перед тем, как подготовиться к спариванию, «настаивает» на изнурительном пении, выбирая таким образом наиболее здорового самца. Думаю, что объяснение необычайно высокой частоты спариваний, наблюдаемой у больших кошек (Eaton, 1978), может оказаться из той же оперы. Шаллер (Schaller, 1972) преследовал одного льва-самца 55 часов, в течение которых тот спаривался 157 раз, со средним промежутком между копуляциями, равным 21 минуте. У кошачьих овуляция вызывается копуляцией. И кажется правдоподобным, что непомерная частота спариваний, свойственная львам-самцам, — это конечный результат вышедшей из-под контроля гонки вооружений, в которой самки требовали все больше и больше совокуплений перед тем, как овулировать, а самцы отбирались по признаку постоянно возраставшей сексуальной выносливости. Львиную стойкость можно рассматривать как поведенческий эквивалент павлиньего хвоста. Данная версия гипотезы совместима с предположением Бертрама (Bertram, 1978), что львицы обесценили такую валюту, как спаривание, с целью уменьшить количество беспощадных драк между львами.
Продолжу цитатой из Трайверса, где он обсуждает тактику психологического манипулирования, которая может быть использована детьми против родителей:
В связи с тем, что нередко детеныши лучше родителей знают свои действительные потребности, отбор должен был благоприятствовать тому, чтобы родители были внимательны к сигналам, которыми детеныши оповещают их о своем состоянии… Но раз такая система уже возникла, ничто не мешает детенышам начать пользоваться ею в ином контексте. Они могут кричать не только будучи голодными, но и тогда, когда просто хотят больше еды, чем естественный отбор предписывает родителям давать им… Затем, разумеется, начнется отбор по признаку родительской способности различать эти сигналы, однако со стороны потомства всегда возможна более искусная мимикрия и надувательство (Trivers, 1974).
Мы снова вернулись к основному вопросу, касающемуся гонки вооружений. Можем ли мы вывести какое-нибудь общее правило, на чьей стороне скорее всего будет «победа» в этой гонке?
Во-первых, что означает высказывание, будто та или иная сторона «победила»? Должен ли «проигравший» в конечном итоге вымереть? Порой возможно и такое. Ллойд и Дибас (Lloyd & Dybas, 1966) высказали причудливое предположение о периодических цикадах (увлекательно изложено в недавней работе Саймона — Simon, 1979). Периодическими цикадами называют три вида, относящиеся к роду Magicicada. У каждого из трех видов имеется две разновидности: 17-летняя и 13-летняя. Каждая особь проводит 17 (или 13) лет, питаясь под землей в виде личинки, чтобы выйти на поверхность ради нескольких недель половозрелой жизни, а затем погибнуть. На любом обособленном участке ареала жизненные циклы синхронизированы, то есть каждые 17 (или 13) лет там происходит нашествие цикад. Биологический смысл этого явления, как предполагают, состоит в том, чтобы возможные хищники или паразиты были малочисленны по сравнению с цикадами в годы их нашествия, а в промежутках между нашествиями голодали бы. Следовательно, особь, чей жизненный цикл был синхронизирован с другими, рисковала меньше, чем та, которая нарушала синхронность и вылезала, скажем, годом раньше. Но пусть даже синхронность и дает преимущества — почему бы цикадам не установить жизненный цикл покороче, чтобы не откладывать на 17 (или 13) лет долгожданное размножение? Ллойд и Дибас предположили, что столь продолжительный жизненный цикл — конечный результат «эволюционного состязания во времени» с неким хищником (или паразитоидом), ныне вымершим. «Жизненный цикл этого гипотетического паразитоида был почти синхронен с таковым у предка периодической цикады и примерно равен ему по времени (но всегда чуть-чуть короче). Как предполагается далее, цикады в конце концов оторвались от своего паразитического преследователя, и несчастное узкоспециализированное создание вымерло» (Simon, 1979). Заходя в своем хитроумии еще дальше, Ллойд и Дибас предполагают, что заключительным этапом гонки вооружений стала выработка жизненного цикла, количество лет в котором равняется простому числу (13 или 17). В противном случае обладающий более коротким жизненным циклом хищник мог бы пересекаться с цикадами во времени каждый второй или каждый третий раз!
На самом же деле «проигравшему» в гонке вооружений совсем не обязательно вымирать, как это предположительно сделал паразитоид цикады. Возможно, вид-«победитель» настолько редок, что представляет относительно небольшую опасность для представителей вида «проигравшего». Победитель является победителем только в том смысле, что его приспособления, направленные против проигравшего, не встречают эффективного отпора. Для индивидуумов, принадлежащих к победившей филогенетической линии, это хорошо, но это может быть не так уж плохо и для представителей линии проигравшей, которая, несмотря ни на что, выдерживает борьбу на других фронтах — и, возможно, с большим успехом.
Данный «эффект редкого врага» — важный пример асимметрии в давлении отбора, действующего на противников в гонке вооружений. Кребс и я не строили математических моделей, но рассмотрели на качественном уровне одну из возможностей такой асимметрии под афористическим названием — принцип «жизнь/ обед». Название взято из басни Эзопа, к которой привлек наше внимание М. Слаткин: «Заяц бежит быстрее, чем лиса, потому что он бежит ради своей жизни, а она — только ради обеда». Другими словами, в этой гонке вооружений на одной из противоборствующих сторон проигравшего идивидуума ждет более суровое наказание, чем на другой. Следовательно, мутации, заставляющие лис бегать медленнее зайцев, дольше продержатся в генофонде, чем этого можно ожидать от мутаций, заставляющих зайцев бегать медленно. Лисица может размножиться, не сумев догнать зайца. Но еще не было случая, чтобы какой-нибудь заяц размножился после того, как его догнала лиса. Таким образом, лисы имеют возможность более гибко распределять ресурсы между приспособлениями для быстрого бега и другими адаптациями. И зайцы, по-видимому, выиграют гонку вооружений там, где речь идет о скорости бега. В данном случае действительно есть асимметрия в силе давления отбора.
Наиболее простые случаи подобной асимметрии возникают, вероятно, по причине, которую я только что назвал эффектом редкого врага, — когда одна из соревнующихся сторон малочисленна и ее влияние на любую отдельно взятую особь вида-противника относительно незаметно. Рассмотрим это, вновь обратившись к примеру удильщика, — пример этот имеет дополнительное достоинство: он показывает, что совершенно не обязательно жертвы («зайцы») должны оставлять хищников («лис») «позади». Предположим, что удильщики довольно редки, и как бы ни было неприятно конкретной рыбке быть пойманной удильщиком, риск того, что это произойдет с любой случайно взятой особью, невелик. Каждое приспособление чего-то стоит. Чтобы отличать приманку удильщиков от настоящих червей, маленькой рыбке понадобится обзавестись сложным аппаратом обработки видеоданных. Для его изготовления потребуются ресурсы, которые можно было бы вложить, например, в гонады (см. главу 3). Кроме того, использование этого аппарата потребует времени, которое можно было бы потратить на то, чтобы ухаживать за самками, или защищать территорию, или, в конце концов, охотиться за добычей, считая ее настоящим червем. Наконец, рыбка, чрезмерно осмотрительная при приближении к червеобразным предметам, возможно, и уменьшит свой риск быть съеденной, но также увеличит риск остаться голодной. Ведь она наверняка обойдет стороной многих превосходных червей, потому что они могли бы оказаться приманкой морского черта. Очень может статься, что соотношение выгод и затрат будет толкать некоторых животных-жертв на полнейшее безрассудство. Особи, которые всегда стремятся съедать мелкие извивающиеся объекты, плюя на последствия, могут в среднем оказаться успешнее тех особей, которые идут на расходы, пытаясь различить настоящих червей и приманки удильщиков. Уильям Джеймс высказал в 1910 г. почти такую же мысль: «Червей не на крючках больше, чем надетых на крючки; вот природа и говорит своим детям-рыбам: в общем и целом, хватайте любого червя, и удачи вам» (цит. по: Staddon, 1981).
Теперь посмотрим на ситуацию с точки зрения морского черта. Ему, чтобы перехитрить своих противников по гонке вооружений, тоже необходимы затраты. Ресурсы, идущие на изготовление приманки, можно было бы вложить в гонады. Время, проведенное без движения в терпеливом ожидании добычи, можно было бы потратить на активные поиски полового партнера.
Но удильщик полностью зависит от того, сможет ли он выжить с помощью своей приманки. Плохо оснащенный для привлечения добычи морской черт умрет от голода. А его жертва, плохо оснащенная для того, чтобы избежать обмана, подвергается только небольшому риску быть съеденной, который она с лихвой компенсирует, экономя на изготовлении и использовании необходимого оснащения.
В приведенном примере удильщик побеждает в гонке вооружений просто потому, что его сторона, в силу своей малочисленности, представляет собой сравнительно небольшую угрозу для противоположной стороны. Это не значит, однако, что отбор будет благоприятствовать хищникам, стремящимся быть редкими или же малоопасными для своих жертв! Внутри популяции удильщиков отбор будет благоприятствовать особям, которые наиболее успешны в охоте и вносят наиболее весомый вклад в то, чтобы сделать свой вид менее редким. Но несмотря на все усилия, морские черти могут оставаться малочисленными по каким-то другим причинам и, как побочное следствие этого, быть в гонке вооружений «впереди» своих жертв.
Добавлю, что тут, возможно, будут наблюдаться частотно-зависимые эффекты различного характера (Slatkin & Maynard Smith, 1979). Например, как только численность одних участников гонки вооружений — скажем, удильщиков — начнет уменьшаться, угроза, которую они будут представлять для особей по другую сторону баррикад, станет неуклонно ослабевать. Следовательно, на другой стороне начнется отбор, способствующий уменьшению затрат на приспособления, связанные с данной конкретной гонкой вооружений. В настоящем примере рыбки будут отбираться на то, чтобы отзывать ресурсы от адаптаций, направленных против удильщиков, и вкладывать их в гонады и т. п. — вплоть до перехода к полному безрассудству, как было сказано выше. Это упростит жизнь удильщикам, вследствие чего те станут многочисленнее и будут представлять более серьезную опасность для своих жертв, среди которых вновь пойдет отбор, способствующий затратам на приспособления против удильщиков. Как всегда в подобного рода рассуждениях, нам совершенно необязательно предполагать наличие колебаний. Вместо них гонка вооружений может прийти к эволюционно стабильной конечной точке — стабильной, разумеется, до тех пор, пока изменение окружающей среды не сделает иными выгоды и затраты, связанные с этой гонкой.
Понятно, что мы не сможем предсказать исход конкретной гонки вооружений до тех пор, пока не узнаем гораздо больше о том, каковы в ней выгоды и затраты. Для наших целей это не имеет значения. Все, что нам нужно, — это удостовериться в том, что в любой конкретной гонке вооружений потери для индивидуумов, принадлежащих к разным соревнующимся сторонам, могут быть неравноценными. Заяц теряет жизнь, лиса всего лишь получает обед. Неумелый удильщик погибает, неумело избегающая удильщиков рыбка всего лишь подвергается крошечному риску погибнуть и может, сэкономив на затратах, добиться большего, чем «умелая» рыбка.
Нам нужно только признать саму возможность существования подобной асимметрии, чтобы ответить на вопрос, возникший, когда мы говорили о манипуляциях. Мы согласились с тем, что если одному организму удается манипулировать нервной системой и эксплуатировать мускулатуру другого, то отбор будет благоприятствовать такому манипулированию. Но сразу же ход нашей мысли прервало возражение, что точно так же отбор будет благоприятствовать и сопротивляемости манипулированию. Можно ли в таком случае встретить в природе эффективные манипуляции? Принцип жизнь/обед и ему подобные явления — такие, как эффект редкого врага — дают нам ответ на этот вопрос. Если манипулирующий индивидуум в случае проигрыша теряет больше, чем манипулируемый, то, значит, успешное манипулирование должно встречаться в природе. Нам должны встречаться животные, действующие в интересах генов других животных.
Один из наиболее впечатляющих примеров тому — гнездовой паразитизм. Выкармливая потомство, птица-родитель, например тростниковая камышовка, собирает с обширной территории пищу, которая обильным потоком устремляется к ней в гнездо. Любое существо, которое выработает приспособления для того, чтобы влезть в это гнездо и переключить поток на себя, неплохо заработает на жизнь. Именно это удалось кукушкам и прочим гнездовым паразитам. Но ведь тростниковая камышовка отнюдь не безропотный рог изобилия с бесплатной пищей. Это активная, сложно устроенная машина, у которой есть органы чувств, мышцы и мозг. Гнездовой паразит должен не только поместить свое тело в гнездо хозяина. Ему необходимо также проникнуть к тому в защитные механизмы нервной системы, причем роль входных отверстий выполняют хозяйские органы чувств. Пользуясь определенными стимулами, как отмычками, кукушка взламывает аппарат родительской заботы и подчиняет его себе.
Образ жизни гнездового паразита совершенно очевидно выгоден, поэтому сегодня кажется невероятным, что в 1965 г. Гамильтон и Орианс были вынуждены защищать точку зрения, согласно которой этот образ жизни возник благодаря естественному отбору, от теорий о «дегенеративном нарушении» нормального родительского поведения. Гамильтон и Орианс пошли дальше, убедительно и всесторонне рассмотрев возможные эволюционные истоки гнездового паразитизма, преадаптации, которые предшествовали его эволюции, и адаптации, которые ее сопровождали.
Одна из таких адаптаций — яйцевая мимикрия. Ее совершенство — по крайней мере, у некоторых «рас» кукушки — доказывает, что приемные родители потенциально способны четко распознавать непрошеных гостей. Отчего загадка, почему кукушечьи хозяева так беспомощны в распознавании кукушат, делается еще непостижимее. Гамильтон и Орианс (Hamilton & Orians, 1965) красочно излагают это затруднение: «Приемные родители кажутся карликами по сравнению с молодыми воловьими птицами и европейскими кукушками, когда те вырастают. Вообразите, как нелепо выглядит крохотная садовая славка… (латинское название оставляет неясным, какой именно вид подразумевается. — Р. Д.), сидящая на макушке у кукушонка, чтобы дотянуться до разинутого рта паразита. Почему садовые славки не принимают защитные меры и не бросают таких птенцов раньше — тем более что с точки зрения человека они легко отличимы?» Когда родитель в несколько раз мельче выкармливаемого им птенца, самого рудиментарного зрения должно хватить, чтобы понять: что-то пошло очень сильно не так. И ведь при этом наличие яйцевой мимикрии говорит о том, что хозяева способны замечать тонкие различия, используя острое зрение. Как же нам объяснить этот парадокс? (см. также Zahavi, 1979).
Быть может, загадка не столь уж трудна, если принять во внимание, что способность узнавать кукушек на стадии яиц должна быть предметом для более мощного давления отбора, чем на стадии птенцов, просто потому что яйца появляются раньше. Заметив кукушечье яйцо, можно выиграть весь репродуктивный цикл. Заметив почти оперившегося кукушонка, выигрываешь считанные дни, когда, быть может, уже все равно поздно заново начинать размножение. В случае с Cuculus canorus (Lack, 1968) есть и другое сдерживающее обстоятельство: хозяин не может провести непосредственное сравнение с собственным потомством, которое уже выброшено кукушонком из гнезда. Общеизвестно, что отличия тогда заметнее, когда рядом есть образец для сравнения.
Различные авторы призывали на помощь «сверхнормальные стимулы» в той или иной форме. Так, Лэк замечает (стр. 88), что, «несомненно, у кукушонка с его огромным зевом и громким назойливым криком выработались в гипертрофированной форме раздражители, запускающие инстинкт кормления у воробьиных птиц. В пользу того, что это соответствует действительности, говорят многочисленные документированные случаи кормления взрослыми воробьиными птицами оперившихся кукушат, выращенных хозяевами, принадлежащими к другому виду; здесь, как и в случае с губной помадой для привлечения мужчин, мы видим пример успешной эксплуатации посредством „сверхстимула“». Уиклер (Wickler, 1968) говорит о том же самом, цитируя Хейнро-та, назвавшего поведение приемных родителей «наркоманским», а кукушонка «пороком своих приемных родителей». Само собой, такое рассуждение многих критиков оставит неудовлетворенными, потому что вопрос, который оно сразу же поднимает, не меньше, чем тот, на который оно дает ответ. Почему отбор не уничтожает у хозяев склонность к «наркотической зависимости» от «сверхнормальных стимулов»?
Здесь, разумеется, снова выходит на сцену концепция гонки вооружений. Если человек совершает поступки, откровенно вредные для себя, — например, регулярно принимает яд, — то у нас есть по крайней мере два способа объяснить такое поведение. Возможно, он не осознает, что принимаемое им вещество — яд, столь похоже оно на настоящую пищу. Эта ситуация аналогична той, когда птицу-хозяина одурачивает мимикрия кукушечьих яиц. Или же он не может устоять вследствие прямого разрушительного воздействия яда на его нервную систему. Так, находящийся в героиновой зависимости человек знает, что наркотик убивает его, но не может прекратить колоться, поскольку наркотик подчинил себе его нервную систему. Мы уже говорили о том, что широкий и как будто напомаженный рот кукушонка рассматривается как сверхнормальный стимул, а зависимость приемных родителей от этого сверхстимула описывается как «наркотическая». Так, может быть, хозяин способен сопротивляться сверхнормальному манипулятивному воздействию кукушонка не больше, чем наркоман — своей дозе или «обработанный» заключенный — приказам своего надзирателя, хотя оказать такое сопротивление и было бы очень полезно. Возможно, на стадии яиц кукушки в своих адаптациях делают упор на обман путем подражания, а на стадии взрослеющих птенцов используют главным образом непосредственное манипулирование нервной системой хозяина.
Любую нервную систему можно подчинить, если действовать грамотно. Всякая выработанная в процессе эволюции адаптация нервной системы хозяина, направленная на сопротивление манипуляциям кукушат, открывает простор для кукушечьих контрадаптаций. Отбор, действующий на кукушек, будет выискивать любые возможные прорехи в только что разработанных психологических доспехах хозяина. Как бы искусно ни сопротивлялись птицы-хозя-ева психологическому манипулированию, кукушки в своем манипуляторском искусстве могут их превзойти. Единственное необходимое допущение состоит в том, что по какой-то причине, как, например, в случае принципа «жизнь/обед» или эффекта редкого врага, кукушки выиграли гонку вооружений. Кукушонок обязан успешно манипулировать хозяином гнезда — иначе он наверняка погибнет. Особь, являющаяся его приемным родителем, сопротивляясь манипуляциям, получит некоторые преимущества, но даже если ей не удастся устоять перед данным конкретным кукушонком, то все равно у нее останутся хорошие шансы на репродуктивный успех в последующие годы. Кроме того, кукушки могут быть достаточно редкими, чтобы риск подвергнуться паразитизму с их стороны был невысоким для каждого отдельно взятого потенциального приемного родителя. Для кукушки же, напротив, «риск» быть паразитом составляет 100 процентов, независимо от того, насколько распространенными или редкими видами являются противоборствующие стороны в гонке вооружений. Кукушонок произошел от цепочки предков, абсолютно каждому из которых удалось одурачить хозяина. А хозяин произошел от цепочки предков, многие из которых могли ни разу в жизни не сталкиваться с кукушками или же успешно размножились, несмотря на то что подвергались кукушечьему паразитизму. Концепция гонки вооружений не рассматривает неадаптивное поведение хозяев как необъяснимую ограниченность возможностей их нервной системы, а дает ему функциональное обоснование, дополняя таким образом классическое объяснение, связанное со сверхнормальными стимулами.
Говоря о манипуляторах, я привел кукушек в качестве примера, но в одном отношении этот пример могут счесть неудачным. Ведь кукушка всего лишь направляет на себя нормальное родительское поведение своего хозяина, а не встраивает в его поведенческий репертуар новую от начала до конца схему поведения, которая не присутствовала бы там в каком-либо виде прежде. Некоторым аналогии с наркотиками, гипнозом и электрической стимуляцией мозга покажутся более убедительными, если будет найден пример такой крайней формы манипулирования. И здесь, возможно, подойдет «поза приглашения к принингу», демонстрируемая другим гнездовым паразитом — буроголовой воловьей птицей Molothrus ater (Rothstein, 1980). Аллопрининг, то есть чистка клювом перьев другой особи, довольно обычен для многих видов птиц. Так что не будет ничего удивительного, если воловьим птицам удастся заставить птиц некоторых видов чистить им перья. Как и в предыдущем случае, это можно рассматривать в качестве простого отклонения от нормального внутривидового аллопрининга, когда воловья птица использует обычные призывающие к аллопринингу стимулы, чрезмерно гиперболизируя их. Но что действительно удивляет, так это умение воловьих птиц заставить почистить себе перья представителей тех видов, которым не свойственен внутривидовой аллопрининг.
Сравнение с наркотиками особенно уместно для «кукушек» из мира насекомых, которые с помощью химических средств принуждают своих хозяев к действиям, наносящим серьезнейший урон их собственной совокупной приспособленности. У некоторых видов муравьев нет своих рабочих. Их царица вторгается в чужое гнездо, избавляется от царицы хозяев и использует хозяйских рабочих для выращивания своей репродуктивной молоди. Методы ликвидации царицы-хозяйки могут быть различными. У некоторых видов, например, у красноречиво названных Bothriomyrmex regicidus и В. decapitans царица-захватчица, оседлав «законную» царицу, гоняет ее взад-вперед, после чего, согласно восхитительному описанию Уилсона (Wilson, 1971), «приступает к действию — единственному, к которому она приспособлена: медленно отгрызает голову своей жертве» (стр. 363).
Monomorium santschii добивается того же результата более тонкими методами. У рабочих особей вида-хозяина имеются органы нападения, оснащенные сильными мускулами, а к мускулам присоединяются нервы. Так зачем утруждать собственные челюсти, если можно вмешаться в работу нервных систем, управляющих многочисленными мускулами рабочих муравьев? Похоже, никто не знает, как захватчице это удается, но факт остается фактом: рабочие убивают собственную мать и признают узурпаторшу. По-видимому, захватчица действует с помощью секретируемого ею вещества, которое, следовательно, можно назвать феромоном[37], но, возможно, плодотворнее будет рассматривать его как наркотик чудовищной силы. В соответствии с такой трактовкой Уилсон (Wilson, 1971, р.413) пишет, что симфилические вещества — это «не просто примитивные питательные вещества и даже не аналоги естественных феромонов хозяина. Некоторые авторы говорили о наркотическом действии симфилических веществ». Также Уилсон использует слово «опьяняющий» и приводит пример, когда рабочие муравьи под влиянием такого вещества были временно дезориентированы и передвигались менее уверенно.[38]
Те, кто никогда не подвергался идеологической обработке или не был наркоманом, с трудом могут понять своих ближних, управляемых при помощи такого рода зависимостей. Подобным же наивным образом мы не понимаем птицу, вынужденную кормить нелепо превосходящего ее по размеру кукушонка, или рабочих муравьев, безрассудно убивающих единственное во всем мире существо, от которого зависит их генетический успех. Но такое субъективное восприятие оказывается обманчивым, даже когда речь идет об относительно топорных достижениях человеческой фармакологии. А уж если за дело взялся естественный отбор, кто будет настолько самонадеян, чтобы строить гипотезы, какие чудеса в искусстве подчинения чужой воли окажутся ему не по силам? Не ждите от животных, что они всегда будут вести себя так, чтобы максимизировать собственную совокупную приспособленность. Поведение тех, кто проиграл гонку вооружений, может быть весьма и весьма эксцентричным. Если они выглядят дезориентированными и теряют твердость походки, то, возможно, это только начало.
Разрешите мне еще раз обратить внимание на то, какого мастерства в порабощении чужой воли достигает царица Monomorium santschii. Для стерильной рабочей самки мать является своего рода генетической золотоносной жилой. Убийство собственной матери для рабочего муравья — акт генетического безумия. Почему же рабочие его совершают? Прошу прощения, тут мне нечего предложить, кроме очередных расплывчатых рассуждений о гонке вооружений. Любая нервная система уязвима для фармакологических манипуляций, если фармаколог достаточно искусен. Нетрудно допустить, что естественный отбор, действующий на М. santschii, выискивал слабые места в нервной системе рабочих-хозяев и пользовался фармакологическими отмычками. Отбор, действующий на хозяев, должен был вскоре залатать имеющиеся прорехи, после чего отбор, действующий на паразита, немедленно принялся совершенствовать снадобье, и гонка вооружений пошла полным ходом. Если Monomorium santschii — достаточно редкий вид, то легко представить, что он мог «победить» в этой гонке, — пусть даже для каждой отдельно взятой колонии, рабочих которой удалось подстрекнуть к цареубийству, это означает гибель. Несмотря на то что плата за цареубийство, которое происходит в случае появления царицы М. santschii, ужасающе высока, суммарный риск подвергнуться паразитизму со стороны М. santschii мог быть крайне низким. Любая царица М. santschii произошла от цепочки прародительниц, каждой из которых удалось принудить рабочих вида-хозяина к цареубийству. Каждая рабочая особь вида-хозяина произошла от цепочки предков, возле колоний которых иногда можно было встретить одну царицу М. santschii на 10 миль вокруг. Расходы на «обзаведение» оснащением против манипуляций случайно забредшей царицы М. santschii, могут перевешивать пользу. Размышления такого рода приводят меня к убеждению, что хозяева вполне могли себе позволить проиграть эту гонку вооружений.
У других видов паразитических муравьев политика иная. Вместо того чтобы внедрять своих цариц в чужие гнезда откладывать яйца и эксплуатировать хозяев, они пользуются рабочей силой хозяев в своих собственных гнездах. Это так называемые муравьи-рабовладельцы. У рабовладельческих видов имеются рабочие, но эти рабочие тратят часть своих сил (в некоторых случаях все свои силы) на экспедиции по захвату рабов. Они совершают набеги на гнезда других видов и похищают личинок и куколки. Из этого расплода уже в гнезде рабовладельцев выходят рабочие, которые занимаются своим обычным делом — добывают и запасают продовольствие — не «осознавая», что на самом деле являются рабами. Преимущество рабовладения предположительно состоит в том, что таким образом экономятся основные затраты на прокорм рабочей силы в личиночном возрасте. Эти расходы несет семья, из которой куколки рабов были похищены.
Рабовладельческие повадки интересны с точки зрения обсуждаемой здесь проблематики, поскольку они приводят к необычной асимметрии в гонке вооружений. Предположим, что между видом-рабовладельцем и видом-рабом идет гонка вооружений. У видов, являющихся жертвами рабовладельческих набегов, можно ожидать появления приспособлений для противостояния рабству: например, более крупных челюстей у солдат, чтобы прогонять налетчиков. Но, конечно же, самым очевидным ответом рабов было бы просто отказаться работать в рабовладельческом гнезде или же убивать вражеский расплод, вместо того чтобы его выкармливать. Это кажется очевидным решением, но для его эволюции существуют труднопреодолимые препятствия. Рассмотрим такую адаптацию как «объявление забастовки», отказ от работы на рабовладельцев. Конечно же, рабочим-рабам надо будет обзавестись какими-то средствами для распознавания того, что они вылупились в чужом гнезде. Но это в принципе не должно быть сложно; проблему мы увидим, когда задумаемся: а как такие приспособления будут передаваться дальше?
Поскольку рабочие не способны к размножению, то у любого вида общественных насекомых приспособления рабочих особей должны передаваться в следующее поколение их способными к размножению родственниками. Обычно это не составляет неразрешимой проблемы, поскольку рабочие оказывают непосредственную помощь своим фертильным родственникам, так что гены, формирующие адаптации у рабочих, напрямую помогают собственным копиям в размножающихся особях. Возьмем теперь в качестве примера мутантный ген, заставляющий попавших в рабство рабочих объявить забастовку. Для гнезда рабовладельцев это может оказаться серьезной диверсией, даже, вероятно, приведет к гибели. Но чего ради? Теперь в окрестностях одним рабовладельческим гнездом меньше, что, по-видимому, хорошо для всех потенциальных жертв, живущих здесь: не только для гнезда, откуда родом рабы-повстанцы, но и не в меньшей степени для гнезд, содержащих «небастующие» гены. Это типичное препятствие для распространения любого «злобного» поведения (Hamilton, 1970; Knowlton & Parker, 1979).
Единственный простой путь для преимущественного выживания генов забастовки — это сделать так, чтобы забастовка избирательно приносила пользу родному гнезду бастующих, гнезду, которое им пришлось покинуть и в котором по-прежнему выращиваются их фертильные родственники. Такое возможно, если охотники за рабами имеют обыкновение совершать повторные набеги на одну и ту же колонию; в противном же случае приходится сделать вывод, что приспособления против рабства должны ограничиваться периодом до того, как куколки рабов покинут свой дом. Как только рабы попадают в гнездо к рабовладельцам, они раз и навсегда выбывают из гонки вооружений, поскольку никак больше не могут повлиять на репродуктивный успех своих способных к размножению родственников. Рабовладельцы вольны вырабатывать сколь угодно изощренные приспособления для манипуляций: хоть физические, хоть химические, хоть феромоны, хоть сильные наркотики — принять ответные меры рабам все равно не удастся.
В действительности, впрочем, сам факт неспособности рабов принять контрмеры уменьшает вероятность того, что техника манипулирования, выработанная рабовладельцами, будет такой уж изощренной. Раз рабы не могут дать сдачи (в эволюционном смысле), то и рабовладельцам нет необходимости тратить дорогостоящие ресурсы на замысловатые и изощренные манипуляторские приспособления: простые и дешевые вполне сработают. Пример с рабством у муравьев довольно специфический, но он показывает особенно интересную ситуацию, когда мы можем сказать, что одна из сторон проигрывает гонку вооружений полностью.
Здесь можно провести аналогию с гибридной лягушкой Rana esculenta (White, 1978). Широко распространенная в Европе лягушка — та самая, что подается во французских ресторанах, не является «видом» в обычном смысле слова. Особи данного «вида» на самом деле представляют собой разнородную смесь гибридов между двумя другими видами, Rana ridibunda и R. lessonae. Выделяют две диплоидные[39] и две триплоидные формы R. esculenta. Для простоты я рассмотрю только одну из диплоидных форм, но сам ход рассуждений применим ко всем существующим разновидностям. Эти лягушки обитают совместно с R. lessonae. Их диплоидный кариотип содержит по одному набору хромосом lessonae и ridibunda. При мейозе[40] они избавляются от хромосом lessonae и производят гаметы[41] ridibunda в чистом виде. Эти лягушки спариваются с особями lessonae, восстанавливая таким образом гибридный генотип в следующем поколении. Следовательно, в телах данной расы Rana esculenta гены ridibunda являются репликаторами зародышевого пути, а гены lessonae — тупиковыми репликаторами. Тупиковые репликаторы могут влиять на фенотип. Они могут даже отбираться естественным отбором. Но результаты этого отбора не имеют отношения к эволюции (см. главу 5). Чтобы сделать следующий абзац более легким для чтения, я обозначу R. esculenta как Г (гибрид), R. ridibunda как 3 (зародышевый путь), и R. lessonae как Т (тупик; хотя следует помнить, что гены «Т» — тупиковые репликаторы только в лягушках Г, а в лягушках «Т» они являются нормальными репликаторами зародышевого пути).
Теперь представьте себе ген в генофонде Т, который действует на тела Т таким образом, что те отказываются спариваться с Г. Отбор должен благоприятствовать такому гену по сравнению с его Г-толерантным аллелем, поскольку последний будет попадать в тела Г и выбрасываться при мейозе. Гены 3 при мейозе не выбрасываются, и отбор будет благоприятствовать им, если они помогут телам Г преодолеть нерасположение особей Т. Следовательно, должна наблюдаться гонка вооружений между генами 3, действующими на тела Г, и генами Т, действующими на тела Т. И в том и в другом случае оба набора генов являются репликаторами зародышевого пути. А как насчет генов Т, действующих на тела Г? Их влияние на фенотипы Г должно быть точно таким же сильным, как и у генов 3: ведь они составляют ровно половину Г-генома. И можно наивно предположить, что они перенесут гонку вооружений с генами 3 в тела Г, где совместно проживают. Но в телах Г эти гены Т находятся в том же положении, что и муравьи, захваченные в рабство. Никакие опосредуемые ими в теле Г адаптации не могут быть переданы в следующее поколение, ведь как бы ни влияли гены Т на формирование фенотипа и, более того, на жизнеспособность особи Г, гаметы, которые эта особь производит, — исключительно 3-гаметы. Подобно тому как у муравьев потенциальные рабы могут отбираться на то, чтобы противостоять захвату в плен, пока находятся в своем родном гнезде, но не будут отбираться по склонности к разорению рабовладельческого гнезда, коль скоро они там уже оказались, — точно так же и гены Т, влияющие на тела Т, могут отбираться на то, чтобы вообще не включаться в состав геномов Г, но как только они туда попали, отбор на них больше не действует, хотя они по-прежнему производят фенотипические эффекты. Они проигрывают гонку вооружений, потому что они в тупике. Точно такую же логику рассуждений можно применить и к другому гибридному «виду» — рыбе Poeciliopsis monacha-occidentalis (Maynard Smith, 1978a).
Первоначально неспособность рабов вырабатывать ответные приспособления была привлечена Трайверсом и Хейром (Trivers & Hare, 1976) для объяснения их теории о гонке вооружений, связанной с численным соотношением полов у общественных перепончатокрылых. Это одно из наиболее известных недавних исследований отдельно взятой гонки вооружений, заслуживающее дальнейшего осмысления. Развивая идеи Фишера (Fisher, 1930а) и Гамильтона (Hamilton, 1972), Трайверс и Хейр пришли к выводу, что для видов муравьев с единственной на колонию и единожды спаривающейся царицей предсказать эволюционно стабильное соотношение полов не так-то просто. Если исходить из допущения, что пол способного к размножению потомства (молодые царицы и самцы) зависит только от царицы, то стабильное соотношение экономических вложений в производителей мужского и женского пола будет 1:1. Если же предположить, что распределение инвестиций в молодняк находится исключительно во власти рабочих, которые сами яиц не откладывают, тогда стабильное соотношение составит 3:1В пользу самок — это вытекает из гаплодиплоидной системы определения пола. Таким образом, в отношениях царицы и рабочих заложен конфликт. Трайверс и Хейр сделали обзор имеющихся данных (надо сказать, весьма скудных) и сообщили о том, что в среднем результат хорошо соответствует предсказанному 3:1. Из этого они заключили, будто ими найдены доказательства того, что влияние рабочих одержало победу в борьбе с влиянием царицы. То была талантливая попытка использовать фактические данные для проверки гипотезы, принадлежащей к такому типу, который часто упрекают в непроверяемости. Но подобно многим новаторским попыткам, эта оказалась легко уязвимой для критики. Александер и Шерман (Alexander & Sherman, 1977) выразили недовольство тем, как Трайверс и Хейр обращаются с данными, а кроме того, предложили альтернативное объяснение смещению соотношения полов в сторону самок, часто встречающемуся у муравьев. Их объяснение («локальная конкуренция за половых партнеров»), как и версия Трайверса с Хейром, изначально было взято у Гамильтона — на этот раз из его статьи о необычных соотношениях полов (Hamilton, 1967).
Положительным результатом этой дискуссии было побуждение к дальнейшей работе. В контексте манипуляций и гонки вооружений особенно интересна статья Чарнова (Charnov, 1978), посвященная причинам возникновения эусоциальности[42], где излагается перспективный вариант принципа жизнь/обед. Его рассуждения подходят как для диплоидных, так и для гаплодиплоидных[43] организмов. Начну с диплоидных. Вообразите себе мать, старшие дети которой еще не покинули гнезда, в то время как уже появился следующий выводок. У молодежи, которой пора покидать гнездо и приступать к собственному размножению, есть возможность вместо этого остаться дома и помогать выращивать своих маленьких братишек и сестренок. Как теперь хорошо известно, с генетической точки зрения при прочих равных условиях такому молодому животному безразлично, кого выращивать: потомство или полных сибсов (Hamilton, 1964 а, b). Но предположим, старуха-мать способна к манипуляциям, хоть сколько-нибудь влияющим на решение ее старших детей. Что она «предпочтет»: чтобы они ушли обзаводиться собственными семьями или чтобы оставались растить ее последующих отпрысков? Очевидно, они должны будут остаться и растить ее детей, поскольку внуки для нее в два раза менее ценны, чем дети. (В таком виде эти рассуждения выглядят незаконченно. Если она всю жизнь будет заставлять всех своих детей выращивать новых неразмножающихся детей-чернорабочих, ее зародышевая линия иссякнет. Мы должны предположить, что она будет манипулировать своими потомками так, что некоторые из них станут размножающимися особями, а некоторые — рабочими, несмотря на то что генетически они однородны.) Отбор, таким образом, будет благоприятствовать подобным манипуляторским наклонностям в родителях.
Обычно мы, постулируя наличие отбора, благоприятствующего манипуляциям, почтительно признаем на словах и ответный отбор, действующий среди жертв. Прелесть идеи Чарнова состоит в том, что в данном случае никакого ответного отбора не будет. Гонка вооружений превращается в блицкриг, поскольку одна из сторон, скажем так, и не думает сопротивляться. Как мы уже знаем, манипулируемым потомкам безразлично, растить им младших сибсов или собственных детей (еще раз отметим: при прочих равных условиях). Следовательно, хотя мы и можем предположить наличие ответного манипулирования со стороны потомков, оно — по крайней мере, в простой и наглядной модели Чарнова — будет вынуждено уступить родительскому манипулированию. Эту асимметрию следует добавить к предложенному Александером списку родительских преимуществ (Alexander, 1974), правда, мне она представляется в целом убедительнее всех прочих пунктов этого списка.
На первый взгляд может показаться, что рассуждения Чарнова неприменимы к гаплодиплоидным животным, и это досадно, поскольку общественные насекомые по большей части гаплодиплоидны. Однако такая точка зрения ошибочна. Сам Чарнов показал, что если соотношение полов в популяции не смещено, то даже у гаплодиплоидных видов самкам безразлично, кого растить: сестер с братьями (г равняется среднему между 3/4 и 1/4) или потомство (г = 1/2). Однако Крейг (Craig, 1980) и Графен (Grafen, готовится к публикации) независимо друг от друга доказали, что Чарнову было даже необязательно делать допущение о несмещенном соотношении полов. Потенциальной рабочей особи всегда, при любом мыслимом соотношении полов, безразлично, кого выращивать — сибсов или детей. Итак, представим себе, что соотношение полов в популяции смещено в сторону самок, предположим даже, что оно соответствует предсказанной Трайверсом и Хейром пропорции 3:1. Поскольку рабочая особь связана со своей сестрой более близким родством, чем со своим братом или с собственным потомком любого пола, то при наличии такого «перекоса» в сторону самок вполне может показаться, что она «предпочтет» растить сибсов, а не детей: разве она не приобретет себе своих максимально ценных сестер (плюс небольшое количество относительно бесполезных братьев), если выберет сибсов? Однако эти умозаключения не учитывают того, что в такой популяции самцы — вследствие своей малочисленности — будут обладать большой репродуктивной ценностью. Возможно, рабочая самка связана не очень близким родством со своими братьями, но если во всей популяции самцы встречаются редко, то, соответственно, каждый из них с высокой вероятностью окажется предком для будущих поколений.
Математические расчеты подкрепляют мысль, что вывод Чарнова даже более универсален, чем сам он предполагал. И у диплоидных, и у гаплодиплоидных видов, каким бы ни было численное соотношение полов в популяции, отдельно взятой самке теоретически не важно: ухаживать ей за детьми или же за младшими братьями и сестрами. Ей, однако, небезразлично, за кем ухаживают ее дети — за собственными детьми или же за своими сибсами; она предпочитает, чтобы они занимались выращиванием братьев и сестер (ее детей), а не потомства (ее внуков). Следовательно, если говорить о возможных манипуляциях в данной ситуации, то более вероятно, что родители будут манипулировать детьми, а не дети родителями.
Может создаться впечатление, что выводы Чарнова, Крейга и Графена резко противоречат выводам Трайверса и Хейра о соотношении полов у общественных перепончатокрылых. Утверждение, что при любом соотношении полов самкам перепончатокрылых безразлично, кого растить — сибсов или потомков, звучит равносильным тому, будто ей так же все равно, каково соотношение полов у нее в колонии. Но это неверно. Мысль, что эволюционно стабильное соотношение полов может оказаться различным в зависимости от того, кто — рабочие или царица — контролирует затраты на фертильных самцов и самок, по-прежнему справедлива. В этом смысле рабочей особи соотношение полов небезразлично, ее действия вполне могут быть направлены на то, чтобы сдвинуть его в сторону от того значения, которого «добивается» царица.
Анализ истинной природы имеющегося между царицей и рабочими конфликта по поводу численного соотношения полов, сделанный Трайверсом и Хейром, может быть продолжен в направлениях, еще более проясняющих концепцию манипулирования (напр., Oster & Wilson, 1978). Следующие рассуждения позаимствованы у Графена (Grafen, готовится к публикации). Я не стану предвосхищать его выводы во всех подробностях, мне только хочется обратить внимание на один принцип, изложенный в его исследовании настолько же ясно, насколько он замаскирован у Трайверса с Хейром. Вопрос не в том, было ли успешно достигнуто «наилучшее» соотношение полов. Напротив, мы исходим из рабочей гипотезы, что естественный отбор, производя некий результат, столкнулся с определенными ограничениями, а дальше задаемся вопросом, в чем же эти ограничения состояли (см. главу 3). В данном случае мы вслед за Трайверсом и Хейром соглашаемся с тем, что для эволюционно стабильного соотношения полов решающее значение имеет то, какая из сторон в гонке вооружений обладает реальной властью, но в отличие от них мы видим более широкий спектр вариантов расстановки сил. Фактически Трайверс и Хейр просчитали следствия двух альтернативных предположений: первое предположение, что все влияние исходит от царицы, а второе — что все зависит только от рабочих. Но можно сделать и множество других реалистичных предположений, и все они приведут к различным прогнозам, касающимся эволюционно стабильного соотношения полов. В других разделах своей статьи Трайверс и Хейр, действительно, рассмотрели некоторые дополнительные варианты, например, допустив, что рабочие особи способны сами откладывать гаплоидные[44] яйца с будущими самцами.
Графен, так же как и Булмер с Тейлором (Bulmer & Taylor, готовится к публикации), изучал, какие следствия будут вытекать из допущения, что власть поделена следующим образом: царица полностью контролирует пол яиц, которые откладывает, а вот выкармливание личинок всецело зависит от рабочих. Таким образом, рабочие могут решать, сколько из имеющихся яиц женского пола разовьется в рабочих, а сколько станет царицами. Они властны морить голодом молодь того или иного пола, но на них действует ограничение: приходится работать исключительно с тем материалом, который поставляет царица. Царицы же властны откладывать яйца с таким соотношением полов, с каким заблагорассудится, включая возможность полного отказа от яиц какого-то одного пола. Но, будучи уже отложены, яйца отдаются на милость рабочих. Говоря языком теории игр, царица могла бы, например, использовать стратегию откладывания в определенные годы только яиц с будущими самцами. Рабочим не останется другого выбора, кроме как выращивать своих братьев (предположительно, с неохотой). Царица в таком случае смогла бы предупредить некоторые стратегии рабочих — например, «корми в первую очередь самок» — просто потому что она «ходит» первой. Но и у рабочих найдутся кое-какие козыри.
Используя теорию игр, Графен показывает, что только некоторые стратегии царицы будут эволюционно стабильными ответами на отдельно взятую стратегию рабочих; в то же время только некоторые стратегии рабочих окажутся эволюционно стабильными ответами на отдельно взятую стратегию царицы. Интересен вопрос: а каковы эволюционно стабильные сочетания стратегий рабочих и царицы? Оказывается, единственного ответа не существует, а именно, возможны три эволюционно стабильных состояния при любом заданном наборе параметров. Подробные результаты Графена здесь для нас не интересны, отмечу лишь, что они удивительно «антиинтуитивны». Сейчас для меня важно то, что эволюционно стабильное состояние моделируемой популяции зависит от предположений, которые мы делаем относительно власти. Трайверс и Хейр противопоставили друг другу две полярные гипотезы (абсолютная власть рабочих и абсолютная власть царицы). Графен исследовал правдоподобную возможность разделения власти (царицы распоряжаются откладыванием яиц, рабочие — выкармливанием личинок). Но, как я уже отмечал, здесь можно высказать и множество других предположений по поводу власти. Каждое из них даст свой прогноз эволюционно стабильного соотношения полов, и, следовательно, проверка этих предсказаний может состоять в поиске фактов, показывающих, каким образом распределена власть в колонии.
Например, мы, как исследователи, можем сосредоточиться на том конкретном моменте, когда царица «решает», оплодотворять ей или нет отдельно взятое яйцо. Правдоподобно будет предположить, что поскольку это событие происходит внутри собственного тела царицы, то, вероятно, отбор будет влиять на данное решение так, чтобы оно принималось в пользу ее генов. Правдоподобно-то оно правдоподобно, однако именно такого рода предположения теория расширенного фенотипа собирается поставить под вопрос. Давайте просто представим себе на минуту, что рабочие могут — с помощью феромонов или иными способами — манипулировать нервной системой царицы так, чтобы подчинить ее поведение своим генетическим интересам. Аналогичным образом, пусть за кормление личинок непосредственно отвечают нервы и мускулы рабочих, но из этого не следует, что мы непременно вправе полагать, будто конечности рабочих двигаются только в интересах их же генов. Как хорошо известно, от царицы мощнейшим потоком исходят феромоны, и нетрудно вообразить, что поведение рабочих подвергается со стороны цариц интенсивным манипуляциям. Суть в том, что какое бы предположение о распределении власти в колонии мы ни сделали, оно даст нам проверяемое предсказание о соотношении полов и нам следует поблагодарить Трайверса и Хейра за эту мысль, а не за частную модель, предсказания которой они проверяли.
Можно даже предположить, что у некоторых перепончатокрылых и самцы имеют влияние. Брокман (Brockmann, 1980) занимается интенсивным изучением грязевых ос Trypoxylon politum. Это «одиночные» осы (в отличие от истинно общественных), но они не всегда пребывают в полном одиночестве. Как и у других роющих ос, каждая самка строит себе отдельное гнездо (в данном случае из грязи), приносит в него парализованную добычу (пауков), откладывает на нее одно яйцо, после чего запечатывает гнездо и начинает весь цикл заново. У многих перепончатокрылых самка носит с собой пожизненный запас спермы, полученный однажды в молодости во время короткого брачного периода. Самки Т. poli-tum, однако, часто спариваются в течение всей взрослой жизни. Самцы постоянно навещают гнезда самок, не упуская возможности спариваться каждый раз, когда те возвращаются к гнезду. Самец может часами просиживать в гнезде без дела — вероятно, помогая охранять его от паразитов — и сражаться с другими самцами, которые пытаются туда проникнуть. Итак, в отличие от большинства самцов перепончатокрылых, самец Т. politum всегда на сцене. Не может ли он в таком случае быть потенциально способен повлиять на численное соотношение полов, подобно тому как это было постулировано для рабочих муравьев?
Если бы самцы действительно влияли на ситуацию, каких последствий можно было бы ждать? Поскольку самец передает все свои гены дочерям и ничего — сыновьям своей подруги, гены, способствующие тому, чтобы самец предпочитал сыновьям дочерей, будут иметь преимущество. Если бы самцы располагали абсолютной властью, полностью определяя соотношение полов в потомстве партнерши, то это имело бы необычные последствия. В таком царстве мужественности в первом поколении не родилось бы ни одного самца. В результате чего на следующий год все яйца оказались бы неоплодотворенными и, следовательно, из них вышли бы только самцы. Таким образом, популяция претерпела бы лихорадочные колебания, а потом вымерла (Hamilton, 1967). Если бы влияние самцов было ограниченным, это привело бы к менее радикальным последствиям — формально ситуация была бы аналогична «драйву Х-хромосомы» в обычной диплоидной генетической системе (глава 8). Так или иначе, можно ожидать, что самец перепончатокрылых — окажись он способен повлиять на численное соотношение полов в потомстве самки — будет стараться сдвинуть его в «женском» направлении. Для этого он мог бы попытаться повлиять на решение своей подруги, выпускать или не выпускать сперматозоиды из семяприемника. Неясно, как именно он бы это делал, однако известно, что у маток медоносной пчелы откладывание оплодотворенного яйца происходит дольше, чем неоплодотворенного — возможно, оплодотворение требует дополнительного времени. Интересно было бы попытаться экспериментально задерживать процесс откладывания маткой яиц, чтобы посмотреть, увеличит ли это вероятность вылупления самок.
Демонстрируют ли самцы Т. politum поведение, которое мы могли бы расценить как попытку такого манипулирования; например, не ведут ли они себя так, как будто стараются сделать процесс откладывания яиц более длительным? Брокман описывает любопытную модель поведения, названную «удерживанием». Она наблюдается в минуты, непосредственно предшествующие откладыванию самкой яйца, и перемежается со спариванием. В дополнение к коротким совокуплениям, совершаемым во время всего периода запасания добычи, о венчающем этот период откладывании яйца и запечатывании гнезда возвещает продолжительная серия копуляций, длящаяся многие минуты. Самка заползает в сделанное из грязи вертикальное гнездо, имеющее форму органной трубы, и упирается головой в гроздь парализованных пауков, прикрепленную к потолку. Ее брюшко оказывается напротив расположенного снизу входа, и в этой позиции самец с ней спаривается. Затем самка разворачивается, так что голова ее высовывается из гнезда, и протискивает кончик своего брюшка между пауками, как будто вот-вот отложит яйцо. Тем временем самец где-то полминуты «удерживает» ее голову своими передними ногами, после чего хватает за антенны и тянет вниз — от пауков. Тогда она разворачивается, и они снова спариваются. Затем она опять разворачивается, чтобы прощупать пауков своим брюшком, а самец вновь берет ее за голову и утаскивает вниз. Вся эта последовательность действий повторяется приблизительно полдюжины раз. Наконец, после особенно продолжительного держания за голову, самка откладывает яйцо.
Когда яйцо отложено, его пол уже не изменишь. Мы с вами рассматривали гипотетическую возможность того, что рабочие муравьи манипулируют нервной системой своей матери, заставляя ее менять решение насчет оплодотворения в пользу их генетических интересов. Предположение Брокман состоит в том, что самцы Т. politum тоже могли бы предпринять попытку подобного захвата власти и что такое поведение, как удерживание самки за голову и утягивание ее вниз, может быть проявлением их манипуляторских технологий. Когда самец захватывает усики самки и тащит ее от пауков, между которыми она проталкивает свое брюшко, не пытается ли он оттянуть момент откладки яйца, чтобы повысить вероятность оплодотворения в яйцеводе? Насколько правдоподобно такое предположение, всецело зависит от того, где именно в организме самки находится яйцо во время удерживания. А может, самец шантажирует самку, фактически угрожая откусить ей голову, если перед тем, как откладывать яйцо, она не согласится еще поспариваться (эту идею предложил д-р У. Д. Гамильтон). Возможно, выгода от повторных копуляций заключается в том, что самец попросту заполняет своей спермой внутренние протоки самки, увеличивая таким образом шансы на встречу яйцеклетки со сперматозоидом, даже если сама партнерша не выпускает ни одного сперматозоида из семяприемника. Это, конечно, всего лишь предположения для дальнейших исследований, и Брокман, вместе с Графеном и другими, занимается их проверкой. Насколько я понял, предварительные данные не подтверждают гипотезу о том, что самцам в действительности удается влиять на численное соотношение полов.
Эта глава была задумана с целью начать подрыв читательского доверия к центральной теореме об эгоистичном организме, утверждающей, что индивидуальные животные должны стремиться к увеличению своей совокупной приспособленности, работать на благо копий своих собственных генов. В данной главе была показана реальная возможность того, что животные могут усердно и энергично трудиться для блага генов какого-то другого индивидуума в ущерб своим собственным. И это не обязательно временное отклонение от центральной теоремы, краткая интермедия манипуляторской эксплуатации, покуда ответный естественный отбор, действующий на поколения жертв, не восстановил равновесие. Я выдвинул предположение, что неизбежные асимметрии вроде принципа жизнь/обед или эффекта редкого врага приводят многие гонки вооружений к такому стабильному состоянию, при котором организмы, принадлежащие к одной из сторон, постоянно трудятся на благо представителей другой стороны и в ущерб самим себе — трудятся усердно, активно и с удовольствием против своих же собственных генетических интересов. Видя, что особи какого-то вида совершают определенные последовательные действия — будь то «муравление» у птиц или что угодно другое, — мы склонны чесать затылок и спрашивать себя, какую пользу для совокупной приспособленности данного животного принесет такое поведение. Ради чего птица позволяет муравьям пробегать через все ее перья? Это борьба с паразитами или что-то другое? Вывод данной главы состоит в том, что вместо этого мы могли бы задаться вопросом, а чьей совокупной приспособленности такое поведение приносит пользу! Самого животного или же скрывающегося за кулисами манипулятора? В случае с «муравлением» кажется здравым рассуждать о пользе для птицы, но, возможно, стоит хотя бы мельком взглянуть и на вероятность того, что это — приспособление для блага муравьев!
| <<< Назад Ошибки, связанные с непредсказуемостью окружающей среды и «недоброжелательностью» |
Вперед >>> Глава 5. Активный репликатор зародышевого пути |
- Предисловие научного редактора
- Предисловие
- Примечание ко второму изданию
- Глава 1 Куб Неккера и буйволы
- Глава 2. Генетический детерминизм и генный селекционизм
- Глава 3. Пределы совершенства
- Глава 4. Манипуляции и гонка вооружений
- Глава 5. Активный репликатор зародышевого пути
- Глава 6. Организмы, группы и мемы: репликаторы или транспортные средства?
- Глава 7. Эгоистичная оса или эгоистичная стратегия?
- Глава 8. Отщепенцы и модификаторы
- Глава 9. Эгоистичная ДНК, скачущие гены и призрак ламаркизма
- Глава 10. Головная боль в пяти «приступособлениях»
- Глава 11. Генетическая эволюция артефактов животных
- Глава 12. Гены паразитов — фенотипы хозяев
- Глава 13. Действие на расстоянии
- Глава 14. Заново открывая организм
- Послесловие. Дэниел Деннет
- Список цитированной литературы
- Список рекомендуемой литературы
- Содержание книги
- Популярные страницы
- Как происходит гонка вооружений
- Вечная гонка вооружений между хозяином и паразитом и эволюция систем защиты и взлома защиты
- Глава VIII Манипуляции с молекулами
- 11.1. Красота: манипуляции с телом
- Глава 7 Наша плоть и кровь. Гонка вооружений, человеческая раса и естественный отбор
- 7. Наша плоть и кровь. Гонка вооружений, человеческая раса и естественный отбор
- Глава 12 Гонка вооружений и «эволюционная теодицея»
- Гонка военно-морских вооружений до Первой мировой войны
- Гонка вооружений
- Ошибки, связанные с непредсказуемостью окружающей среды и «недоброжелательностью»