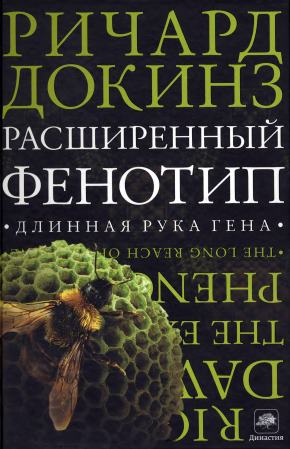Книга: Расширенный Фенотип: длинная рука гена
Глава 6. Организмы, группы и мемы: репликаторы или транспортные средства?
| <<< Назад Глава 5. Активный репликатор зародышевого пути |
Вперед >>> Глава 7. Эгоистичная оса или эгоистичная стратегия? |
Глава 6. Организмы, группы и мемы: репликаторы или транспортные средства?
Я так настойчиво указывал на фрагментацию ДНК при мейозе как на вескую причину того, почему размножающиеся половым путем организмы нельзя считать репликаторами, что теперь невольно может показаться, будто эта причина единственная. Однако будь оно так, отсюда следовало бы, что бесполые организмы являются истинными репликаторами, и там, где отсутствует половой процесс, мы имеем полное право говорить об адаптациях «для блага организма». Но помимо мейотической рекомбинации есть и другой аргумент против того, чтобы считать организмы настоящими репликаторами. Этот более основополагающий довод применим к бесполым организмам в той же мере, что и к тем, которые размножаются половым путем.
Рассматривать в качестве репликатора организм — пусть даже размножающийся без полового процесса, вроде самки палочника, — равносильно отрицанию «центральной догмы» о ненаследуемости приобретенных признаков. Самка палочника напоминает репликатор в том смысле, что мы можем проследить последовательность, состоящую из дочери, внучки, правнучки и т. д., каждая из которых оказывается копией своей предшественницы. Теперь представьте себе, что где-то в этой цепи появился дефект или повреждение — скажем, несчастное насекомое лишилось ноги. Этот изъян может остаться на всю жизнь, но следующему звену он передан не будет. Происходящие с палочниками изменения, которые не затрагивают их генов, не увековечиваются. Давайте теперь взглянем на параллельный ряд, образованный геномами дочери, внучки, правнучки и т. д. Если в этой цепи случится повреждение, то оно передастся всем последующим звеньям. Оно может отразиться и на телах всех последующих звеньев этой цепи, потому что в каждом поколении существует причинно-следственный вектор, ведущий от генов к организму. Однако обратного причинного вектора от организма к генам не существует. Никакая деталь фенотипа палочника не является репликатором. Не является им и весь организм целиком. Неверно утверждать, что «как гены способны наследовать свое строение в череде поколений генов, точно так же и организмы способны наследовать свое строение в череде поколений организмов».
Прошу прощения, если чересчур разжевываю, но боюсь, что мне следовало бы четко высказаться по данному вопросу раньше, тогда удалось бы избежать возникшего на ровном месте разногласия с Бейтсоном — разногласия, с которым стоит разобраться. Бейтсон (Bateson, 1978) обращает внимание на то, что генетические детерминанты являются необходимыми, но не достаточными для развития. Ген может «программировать» какой-то элемент поведения, «не являясь единственным определяющим фактором». Далее Бейтсон пишет следующее:
Докинз соглашается с этим, но тут же обнаруживает всю неточность используемого им языка, немедленно возвращая гену его особый статус программиста. Рассмотрим случай, когда для появления определенного фенотипа важна температура окружающей среды. Если температура изменяется на несколько градусов, то побеждает уже не та, а другая машина выживания. Не делает ли это необходимый уровень температуры не менее важным, чем необходимый ген? Температурные условия столь же нужны для возникновения нового фенотипа. Они так же стабильны (в определенных пределах) от поколения к поколению. Они даже могут передаваться от одного поколения к другому, если машины выживания строят гнезда для своего потомства. Действительно, если перенять у Докинза манеру его идеологической аргументации, то можно утверждать, что птица — это способ, которым гнездо производит другие гнезда (Bateson, 1978).
Я ответил Бейтсону, хотя и чересчур кратко, остановившись только на заключительном высказывании о птичьих гнездах. Я написал: «Гнездо не является истинным репликатором, потому что [негенетическая] „мутация“, произошедшая при его постройке, — например, случайно затесавшаяся хвоинка, — не будет увековечена в последующих „поколениях“ гнезд. По этой же причине репликаторами не являются ни белковые молекулы, ни информационная РНК» (Dawkins, 1978 а). Бейтсон взял известное высказывание про то, что птица — это приспособление, с помощью которого один ген создает другой ген, и исказил его, поменяв «ген» на «гнездо». Однако эта аналогия неправомерна. Существуют причинно-следственные векторы, идущие от гена к птице, но в обратном направлении их нет. Изменившийся ген может самовоспроизводиться лучше, чем его немутировавший аллель. Изменившееся гнездо к этому не способно, если только, конечно, его изменение не связано с генетической мутацией, но в таком случае самовоспроизводится ген, а не гнездо. Гнездо, так же как и птица, — это приспособление, с помощью которого один ген создает другой ген.
Бейтсон беспокоится, поскольку ему кажется, что я наделяю влияющие на поведение наследственные факторы «особым статусом». Его тревожит, что внимание, которое я сосредоточиваю на гене как на том объекте, над выгодой которого организмы трудятся в первую очередь, может привести к чрезмерному выпячиванию роли генетических факторов по сравнению с факторами среды, когда речь идет о развитии организма. На это можно ответить, что в том случае, когда мы говорим о развитии, уместно уделять негенетическим факторам такое же внимание, как и генетическим. Но коль скоро речь зашла о единицах отбора, то тут требуется сделать акцент на другом: на свойствах репликаторов. Генетические факторы заслужили свой особый статус только лишь тем, что они копируют сами себя, свои повреждения и все прочее, а негенетические факторы этого не делают.
Следует безоговорочно согласиться с тем, что температура в гнезде, где живет и развивается птенец, важна как для непосредственного выживания, так и для всего хода развития птицы, а значит, и для ее успешности в зрелом возрасте. Непосредственные воздействия генных продуктов на биохимические пружины онтогенеза, в самом деле, могут очень напоминать последствия температурных изменений (Waddington, 1957). Мы даже можем представить себе созданные генами ферменты в виде маленьких бунзеновских горелок, которые выборочно подводятся к узловым точкам ветвистого дерева причинно-следственных связей и управляют развитием зародыша с помощью избирательного контроля над уровнем биохимических реакций. Эмбриологи правильно не делают принципиального различия между наследственными факторами и факторами среды, справедливо считая и те, и другие необходимыми, но не достаточными. Бейтсон высказывается с позиции эмбриолога, и никакой этолог не смог бы сделать это лучше. Но я не об эмбриологии вел речь. Меня не так уж заботило, какие из факторов, влияющих на развитие, важнее. Я рассуждал о выживании репликаторов в эволюционном масштабе времени, а Бейтсон, несомненно, согласится с тем, что ни гнездо, ни температура в нем, ни птица, которая его построила, — не репликаторы. Мы легко увидим, что они не являются репликаторами, если опытным путем внесем в них изменения. Такое изменение может смутить покой животного, нанести ущерб его развитию и уменьшить шансы на выживание, но оно не будет передано следующему поколению. Покой гена зародышевой линии тоже можно смутить (смутировать), и это изменение, повлияет оно или нет на развитие и выживание птицы, способно передаваться следующим поколениям, способно реплицироваться.
Как это часто случается, кажущееся разногласие возникло вследствие взаимонепонимания. Я думал, что Бейтсон отказывает в должном уважении Бессмертному Репликатору. А Бейтсон думал, что я недостаточно почтителен к Великому Сплетению сложных причинно-следственных связей, действующих в процессе онтогенеза. По сути, каждый из нас был оправданно сосредоточен на мыслях, наиболее значимых для двух важнейших направлений биологии, соответственно, на индивидуальном развитии и естественном отборе.
Итак, организм нельзя назвать репликатором — даже грубым репликатором с низкой точностью копирования (несмотря на то, что пишет Левонтин — Lewontin, 1970 а; см. Dawkins, 1982). Следовательно, лучше не считать адаптации существующими для блага организма. А как насчет более крупных единиц: групп организмов, видов, сообществ и т. д.? Некоторые из подобных формирований однозначно отбрасываются различными вариантами нашего аргумента «непостоянство состава делает невозможным точное копирование». В данном случае причина непостоянства — не в комбинирующем действии мейоза, а в эмиграции и иммиграции, в нарушении целостности групп из-за перемещения отдельных особей. Как я уже выразился однажды, они похожи на облака или на пыльные бури в пустыне. Это временные скопления и союзы. В эволюционном масштабе времени они нестабильны. Популяции могут существовать довольно долго, но они непрерывно смешиваются с другими популяциями, теряя таким образом свою индивидуальность. Также они подвержены эволюционным изменениям изнутри. Популяция — объект недостаточно дискретный, чтобы стать единицей естественного отбора, она недостаточно стабильна и монолитна, чтобы быть «отобранной» из других популяций. Но мы уже видели, что аргумент «о непостоянстве» применим только к части организмов — той, которая размножается половым путем. Точно так же он применим и не ко всякой группе. Он действует для групп, имеющих возможность межпопуляционного скрещивания, но не подходит для видов, поскольку им свойственна репродуктивная изоляция.
Давайте теперь посмотрим, в достаточной ли степени вид действует как единое целое, размножаясь и давая начало новым видам, чтобы его было можно называть репликатором. Обратите внимание, речь здесь идет не о логическом умозаключении Гизлина (Ghiselin 1974b), будто виды — это «индивидуумы» (см. также Hull, 1976). Организмы, в понимании Гизлина, тоже индивидуумы, а я, надеюсь, уже сумел доказать вам, что организмы — не репликаторы. Соответствуют ли виды, а точнее, репродуктивно изолированные генофонды, определению репликатора?
Важно помнить, что одно лишь бессмертие — признак недостаточный. Филогенетическая линия — например, последовательность из родителей и потомства плеченогого Lingula, сохранившегося неизменным на протяжении эпох, — бесконечна в том же смысле и в той же мере, что и родословная генов. Да и необязательно брать в качестве примера такое «живое ископаемое», как Lingula. Даже ту линию предки — потомки, которая эволюционирует с высокой скоростью, в известной степени можно рассматривать как некую сущность, в любой момент геологической истории являющуюся либо выжившей, либо вымершей. Кроме того, некоторые из таких линий могут вымереть с большей вероятностью, чем другие, и мы уже подходим к разгадке некоторых статистических законов вымирания. Например, вероятность вымирания систематических групп, в которых самки размножаются партеногенезом, может с некоторой закономерностью быть иной, чем у тех групп, где самки уделяют должное внимание половой жизни (Williams, 1975; Maynard Smith, 1978 а). Высказывалось предположение, что те филогенетические линии аммонитов и двустворчатых моллюсков, у которых в ходе эволюции быстро возрастают размеры (то есть линии, строго следующие правилу Копа[56]), более склонны к вымиранию, чем медленно эволюционирующие линии (Hallam, 1975). Ли (Leigh, 1977) делает несколько блестящих замечаний по поводу избирательного вымирания филогенетических линий и того, как оно соотносится с отбором на более низких уровнях: «…преимущественно выживают те виды, у которых отбор, действующий в популяциях, в наибольшей степени направлен на благо вида в целом». Отбор «…благоприятствует тем видам, у которых, в силу каких угодно причин, выработались такие генетические системы, где селективное преимущество гена максимально соответствует его вкладу в приспособленность организма». Особенно ясно по поводу логического статуса филогенетической линии удалось высказаться Халлу который четко отграничил ее и от репликаторов, и от интеракторов (этим термином Халл обозначает то, что я называю «транспортными средствами»).
Выборочное вымирание филогенетических линий, формально будучи разновидностью отбора, само по себе, однако, не способно вызывать прогрессивные эволюционные изменения. Линии могут уцелеть или нет, их можно назвать «выживателями», но это не делает их репликаторами. Песчинки — тоже выживате-ли. Твердые гранулы кварца или алмаза будут сохраняться дольше мягких, состоящих из мела. Но никому никогда не приходило в голову видеть в отборе на твердость, происходящем среди песчинок, движущую силу эволюции. Фундаментальная причина здесь в том, что песчинки не размножаются. Одна песчинка может оставаться неизменной довольно долго, но она не размножается и не создает собственные копии. Спросим себя: размножаются или нет виды и другие группы организмов? Реплицируются ли они?
Александер и Борджиа (Alexander & Borgia, 1978) отвечают на эти вопросы утвердительно и, как следствие, признают виды истинными репликаторами: «Виды дают начало новым видам; виды размножаются». Самые убедительные доводы в пользу того, чтобы считать виды, а вернее, их генофонды, размножающимися репликаторами, я могу почерпнуть из теории «межвидового отбора»[57], связанной с палеонтологической концепцией «прерывистого равновесия» (Eldredge & Gould, 1972; Stanley, 1975, 1979; Gould &: Eldredge, 1977; Gould, 1977c, 1980a, b; Levinton &: Simon, 1980). Я потрачу некоторое время, чтобы обсудить здесь суть этой теории, поскольку «межвидовой отбор» имеет самое непосредственное отношение к настоящей главе. На это не жалко времени еще и потому, что хотя я и считаю предположения Элдриджа и Гульда представляющими большой интерес для биологии в целом, меня тревожит, как бы их не сочли более революционными, чем они в действительности являются. Гульд и Элдридж (Gould & Eldredge, 1977, р.117) сами опасаются этого, хотя и по другой причине.
Мои опасения вызваны растущим влиянием вечно бодрствующей армии критикующих дарвинизм дилетантов — как религиозных фундаменталистов, так и ламаркистов вроде Бернарда Шоу и Артура Кестлера — всех тех, кто по причинам, не имеющим никакого отношения к науке, жадно хватается за все, что, будучи не вполне понято, может показаться антидарвинистским. Журналисты зачастую выражают излишнюю готовность потворствовать непопулярности дарвинизма в некоторых далеких от науки кругах. Одна из наименее недостойных британских ежедневных газет (The Guardian от 21 ноября 1978 г.) преподнесла в своей передовице по-журналистски искаженную, но все еще узнаваемую версию теории Элдриджа/Гульда в качестве доказательства того, что дела дарвинизма совсем плохи. В результате, как и следовало ожидать, в разделе писем в редакцию было опубликовано несколько ликующих посланий от ничего не понявших фундаменталистов (некоторые — из пугающе влиятельных источников), и у публики вполне могло остаться впечатление, что даже сами «ученые» теперь сомневаются в дарвинизме. Д-р Гульд сообщил мне, что в The Guardian не согласились опубликовать его письмо с опровержением. Другая британская газета, The Sunday Times (от 8 марта 1981 г.) в гораздо более пространной статье сенсационно преувеличивала различия между теорией Элдриджа — Гульда и другими направлениями дарвинизма. Не осталась в стороне и Британская вещательная корпорация, примерно в это же время выпустившая две передачи, подготовленные конкурирующими творческими объединениями. Одна называлась «Проблемы с эволюцией», а другая «Был ли Дарвин прав?» — и они мало чем отличались друг от друга, если не считать того, что в одну пригласили Элдриджа, а в другую Гульда! Ну и еще во второй из этих передач додумались разыскать нескольких фундаменталистов, чтобы те прокомментировали теорию прерывистого равновесия. Нетрудно догадаться, что превратно истолкованная видимость несогласия в дарвинистских рядах стала для них манной небесной.
Журналистские приемы не чужды и научной периодике. Так, опубликованный в Science (том 210, с. 883–887, 1980 г.) отчет о недавно прошедшей конференции по макроэволюции имел эффектное название «Эволюционная теория в огне» и не менее сенсационный подзаголовок «Историческая конференция в Чикаго бросает вызов сорокалетнему господству синтетической теории эволюции» (см. критику Футуймы с соавт. — Futuyma et al., 1981). Приведу цитату из Мэйнарда Смита, сказавшего на этой же самой конференции: «Предполагая интеллектуальный антагонизм там, где его вовсе нет, вы рискуете воспрепятствовать пониманию» (см. также Maynard Smith, 1981). На фоне такого ажиотажа мне хочется быть особенно точным, говоря о том, «Чего Элдридж и Гульд не говорили (и что именно они сказали)», как был озаглавлен один из разделов в работе самих этих авторов.
Теория прерывистого равновесия выдвигает предположение, что эволюция состоит не в постепенных плавных изменениях, «величаво развертывающихся», а происходит рывками, перемежающими периоды длительного застоя. Отсутствие эволюционных изменений у ископаемых организмов должно не списываться на «скудные сведения», а признаваться нами за норму — это именно то, чего мы действительно должны ожидать, если всерьез воспринимаем СТЭ и, в особенности, входящие в нее представления об аллопатрическом видообразовании[58]: «Прямым следствием из аллопатрической теории является то, что новые ископаемые виды не возникают в том же месте, где жили их предки. Крайне маловероятно, чтобы мы смогли увидеть постепенное расхождение филогенетической линии, просто следуя за каким-нибудь видом вверх по вертикальному срезу горной породы» (Eldredge & Gould, 1972, р.94). Разумеется, микроэволюция путем обычного естественного отбора — то, что я назвал бы отбором генетических репликаторов, — происходит, но она во многом ограничена краткими вспышками активности в периоды кризисов, известных как видообразование. Микроэволюционные вспышки обычно завершаются слишком быстро, чтобы палеонтологи могли за ними уследить. Мы видим только состояние филогенетической линии до и после того, как появился новый вид. Следовательно, «отсутствие переходов» между видами в палеонтологической летописи — это не только не затруднение, время от времени смущающее дарвинистов, это как раз то, чего мы должны ожидать.
Палеонтологические доказательства могут оспариваться (Gingerich, 1976; Gould & Eldredge, 1977; Hallam, 1978), и я недостаточно квалифицирован, чтобы судить о них. Подходя не с палеонтологических позиций — а если честно, пребывая в прискорбном неведении по поводу существования теории Элдриджа и Гульда — я однажды наткнулся на идею Райта и Майра о забуференных генофондах, которые сопротивляются изменениям, но иногда становятся жертвой генетических революций. Это приятно согласовывалось с одним из моих собственных увлечений — концепцией Мэйнарда Смита (Maynard Smith, 1974) об «эволюционно стабильных стратегиях»:
Генофонд становится эволюционно стабильной совокупностью генов. Под это определение подходит такой генофонд, в который не может включиться никакой новый ген. Большинство новых генов, появляющихся в результате мутирования, перестановки или иммиграции, быстро устраняется естественным отбором: эволюционно стабильный набор восстанавливается. Время от времени… возникает некий период нестабильности, завершающийся появлением новой эволюционно стабильной совокупности… Популяция может иметь несколько альтернативных точек стабильности и иногда перескакивать с одной на другую. Прогрессивная эволюция — это, возможно, не столько упорное карабканье вверх, сколько ряд дискретных шагов от одного стабильного плато к другому (Dawkins, 1976а,р. 93).
Немалое впечатление на меня также произвела неоднократно повторяемая Элдриджем и Гульдом мысль о временных масштабах: «Что такое однонаправленный процесс, результатом которого оказывается увеличение на 10 % за миллион лет, как не бессмысленная абстракция? Может ли в нашем изменчивом мире поддерживаться такое мизерное давление отбора столь непрерывно и в течение столь долгого времени?» (Gould & Eldredge, 1977). «… Вообще увидеть градуализм[59] в палеонтологической летописи — означало бы такой мучительно малый уровень изменений за одно поколение, что нам пришлось бы всерьез задуматься об их незаметности для естественного отбора в его традиционном понимании, подразумевающем изменения, которые дают немедленные адаптивные преимущества» (Gould, 1980 а). Думаю, тут была бы уместна следующая аналогия. Если пробка плывет от одного берега Атлантического океана до другого и движется неуклонно, не сбиваясь в сторону и не сдавая назад, то мы могли бы призвать на помощь в качестве объяснения Гольфстрим или пассаты. Это покажется правдоподобным, если время, за которое пробка пересечет океан, будет иметь величину подходящего порядка — например, несколько недель или месяцев. Но если пробка будет пересекать океан в течение миллиона лет, все так же не отклоняясь и не отступая, медленно, но верно продвигаясь вперед, тогда нас уже не удовлетворит никакое объяснение из разряда течений и ветров. Течения и ветры просто не движутся с такой скоростью, а если и движутся, то, значит, они настолько слабы, что пробку — вперед ли, назад ли — будут перемещать главным образом другие силы. Если мы обнаружим пробку, неуклонно плывущую с такой предельно низкой скоростью, то нам придется искать объяснение совершенно другого рода — объяснение, соразмерное с временной шкалой наблюдаемого явления.
Между прочим, здесь присутствует представляющая некоторый интерес историческая ирония. Одним из первых аргументов, использовавшихся против Дарвина, была нехватка времени на предполагаемую эволюцию. Казалось трудным представить себе, что давление отбора могло быть достаточно сильным для осуществления всех преобразований за тот короткий срок, который, по тогдашним представлениям, имелся в распоряжении эволюции. Элдридж и Гульд в только что приведенных отрывках рассуждают с точностью до наоборот: трудно себе представить достаточно слабое давление отбора, чтобы поддерживать такую медленную скорость однонаправленной эволюции за столь долгий период! Возможно, нас должен насторожить этот исторический разворот. Оба рассуждения основываются на аргументации типа «трудно себе представить», от которой Дарвин нас мудро предостерегал.
Хотя идея Элдриджа и Гульда о масштабе времени и представляется мне довольно убедительной, я не так уверен в ней, как они, поскольку все-таки сомневаюсь в силе моего воображения. Ведь, в конце концов, на самом деле теория постепенных преобразований не нуждается в допущении о долговременной однонаправленной эволюции. Вернемся к моей аналогии: а что, если ветер действительно такой слабый, что пробке потребуется миллион лет для пересечения Атлантики? Волны и локальные течения, бесспорно, могут перемещать ее назад почти столько же, сколько и вперед. Но когда мы суммируем все влияния, то может оказаться, что итоговое статистическое направление движения пробки определяется слабым, но постоянным ветерком.
Также мне любопытно, достаточное ли внимание Элдридж и Гульд уделили тем возможностям, которые открывает «гонка вооружений» (глава 4). Характеризуя критикуемую ими теорию градуализма, они пишут: «Предполагаемый механизм постепенных однонаправленных изменений — это „ортоселекция“, которую обычно рассматривают как постоянное прилаживание к однонаправленным изменениям одного или нескольких физических параметров окружающей среды» (Eldredge & Gould, 1972). Если бы ветры и течения в физическом окружении животных оказывали неизменное влияние в одном направлении на протяжении геологического времени, то филогенетические линии и в самом деле могли бы добраться до противоположного берега своего эволюционного океана так быстро, что палеонтологи были бы неспособны проследить их маршрут.
Но замените «физических» на «биологических», и все может оказаться по-другому. Если каждый мелкий приспособительный шажок в ряду поколений у одного вида вызывает контрадаптацию у другого вида — скажем, у хищника, — тогда медленная, направленная ортоселекция выглядит куда правдоподобнее. То же самое справедливо и для внутривидовой конкуренции, когда, к примеру, оптимальный размер особи незначительно превышает тот, что наиболее распространен в данной популяции, каким бы этот наиболее распространенный размер ни был. «… Для популяции в целом характерна постоянная тенденция, благоприятствующая размеру, слегка превышающему средний. Чуть более крупные особи имеют очень малое, но — на протяжении долгого времени и в больших популяциях — решающее конкурентное преимущество… Итак, популяции, постоянно эволюционирующие подобным образом, всегда являются хорошо приспособленными, в том что касается размера особи. Под этим подразумевается, что область их изменчивости всегда включает в себя оптимум, однако устойчивая асимметрия центростремительного отбора способствует медленному сдвигу среднего в сторону увеличения» (Simpson, 1953, р.151). Или же напротив (эта логика бессовестно работает в обе стороны!), если пути эволюции действительно прерывистые и пошаговые, то, возможно, это само по себе объясняется концепцией гонки вооружений, предполагающей отставание во времени между появлением адаптивных преимуществ у одной из соперничающих сторон и ответных адаптаций у другой.
Давайте, впрочем, пока что благосклонно отнесемся к теории прерывистого равновесия как к будоражащему воображение новому взгляду на знакомые явления и обратимся к другой части равенства Гульда и Элдриджа (Gould & Eldredge, 1977): «прерывистое равновесие + правило Райта = межвидовой отбор». Правило Райта (термин принадлежит не ему) — это «утверждение, что набор морфологических признаков, возникающих в ходе видообразования, является совершенно случайным по отношению к направлению, в котором развивается вся эволюционная ветвь» (Gould & Eldredge, 1977). Например, даже если в совокупности родственных филогенетических линий наблюдается общая тенденция к увеличению размеров тела, то в соответствии с правилом Райта из этого не следует, что все новообразованные виды непременно должны быть крупнее своих предшественников. Аналогия со «случайностью» мутаций напрашивается сама собой, и это прямиком ведет нас к правой части уравнения. Если различия между новыми видами и их предками не зависят от главных направлений эволюции, значит, сами эти направления должны быть результатом избирательного вымирания среди новых видов или — как выразился Стэнли (Stanley, 1975) — «межвидового отбора».
Гульд (Gould, 1980 а) считает, что «проверка правила Райта — первоочередная задача макроэволюционной теории и палеобиологии. Ведь от этого зависит теория межвидового отбора в чистом виде. Представьте себе какую-нибудь филогенетическую ветвь, являющуюся иллюстрацией правила Копа об увеличении размеров тела, — например, лошадей. Если правило Райта справедливо и новые виды лошадей, более крупные и более мелкие по сравнению с предками, возникают с одинаковой частотой, тогда общая тенденция направляется межвидовым отбором. Но если у новых видов размер тела, как правило, крупнее, чем у их предков, тогда межвидовой отбор вообще не нужен, поскольку общее направление будет поддерживаться и при случайном вымирании». Тут Гульд одновременно обнажает горло и протягивает бритву Оккама своим противникам! Ведь он легко мог заявить, что даже если видообразование (аналог мутаций в его рассуждениях) и является направленным, то скорость движения в этом направлении может, тем не менее, усиливаться межвидовым отбором (Levinton & Simon, 1980). Уильямс (Williams, 1966,p.99) в интересном рассуждении, ссылки на которое в литературе по прерывистому равновесию мне не попадались, рассматривает форму межвидового отбора, действующую вопреки общему направлению внутривидовой эволюции и, возможно, пересиливающую его. Он тоже пользуется примером с лошадью и тем фактом, что чем больше возраст окаменелостей, тем в целом мельче их размеры:
Исходя из этого наблюдения, соблазнительно заключить, что размер, превышающий среднее значение, — по крайней мере, большую часть времени и в большинстве случаев — преимуществом для размножения отдельно взятой лошади по сравнению с другими членами популяции. Таким образом, считается, что если брать в среднем, то популяции, составлявшие лошадиную фауну третичного периода, большую часть времени эволюционировали в сторону увеличения размеров тела. Но если подумать, то все может обстоять как раз наоборот. Возможно, в каждый конкретный момент третичного периода большинство лошадиных популяций эволюционировало в сторону уменьшения размеров. А для того, чтобы объяснить тенденцию к укрупнению, достаточно лишь вдобавок предположить, что ей благоприятствовал групповой отбор. Следовательно, тому меньшинству популяций, которое вырабатывало более крупные линейные размеры, ничто не мешало дать начало большинству популяций, живших миллион лет спустя.
Мне нетрудно будет допустить, что какие-то из основных направлений макроэволюции, наблюдаемых палеонтологами, — наподобие правила Копа (см., однако, Hallam, 1978) — являются результатом межвидового отбора в том смысле, который подразумевается в приведенном отрывке из Уильямса и который, как я полагаю, вкладывают в это понятие Элдридж и Гульд. Думаю, все три автора согласятся, что это не имеет никакого отношения к тем случаям, когда личное самопожертвование объясняют как адаптацию «на благо вида», возникшую в результате группового отбора. Там речь идет о другой модели группового отбора, в которой группа рассматривается не как репликатор, но как истинное транспортное средство для репликаторов. Я подойду к этой второй разновидности группового отбора чуть позже. Пока же попытаюсь доказать, что считать групповой отбор способным к формированию простых эволюционных направлений и быть убежденным в том, что он может вырабатывать такие сложные приспособления, как глаз или мозг, — это не одно и то же.
Основные палеонтологические тенденции — увеличение всего тела или разных его частей друг относительно друга — важны и интересны, но в первую очередь просты. Давайте примем точку зрения Элдриджа и Гульда, что естественный отбор — это общая теория, которая может быть сформулирована на разных уровнях. Так или иначе формирование определенного количества эволюционных изменений требует некоторого минимального количества случаев избирательной элиминации репликаторов. Чем бы ни были избирательно отсеиваемые репликаторы — генами или видами, — если эволюционное изменение простое, то для его осуществления достаточно небольшого числа замещений одних репликаторов другими. Однако для эволюции сложного приспособления необходимо большое количество репликаторных замен. Если рассматривать в качестве репликатора ген, то минимальный цикл, необходимый для такого замещения, составляет одно поколение — от зиготы до зиготы. Он измеряется годами, месяцами или еще меньшими единицами времени. Даже у самых крупных организмов он измеряется всего лишь десятилетиями. С другой стороны, если считать репликатором вид, то такой необходимый для замещения цикл будет продолжаться от одного видообразования до другого и может измеряться тысячелетиями, десятками и сотнями тысячелетий. На любом промежутке геологического времени количество случаев селективного вымирания видов будет на много порядков меньше числа производимых отбором аллельных замен.
Возможно, что это опять всего лишь нехватка воображения, но если я легко могу себе представить, как межвидовой отбор создал такое простое изменение, как удлинение ног у лошадей в третичном периоде, то наделить столь медленный процесс отсеивания репликаторов способностью собрать воедино сложный комплекс адаптаций, необходимый, например, для обитания китов в водной среде, моя фантазия не в силах. Мне могут возразить, что это, безусловно, несправедливо. Как бы ни были в целом сложны приспособления китов к водной жизни, разве нельзя разбить их на множество простых изменений в размерах, происходивших с разными частями тела и имевших аллометрические константы разной величины и знака? Если вы можете переварить одномерное увеличение длины лошадиных ног в результате межвидового отбора, то чем вас не устраивает набор столь же простых преобразований, идущих параллельно и движимых межвидовым отбором? Слабость подобных возражений кроется в статистике. Предположим, таких параллельных тенденций десять, что, конечно же, очень скромная оценка для эволюции адаптаций к водной жизни у китов. Применив ко всем десяти правило Райта, мы увидим, что каждый раз при образовании нового вида любой из этого десятка признаков имеет одинаковые шансы измениться как в одну, так и в другую сторону. Вероятность того, что при появлении одного нового вида все они изменятся в нужном направлении, равна одной второй в десятой степени, а это меньше, чем одна тысячная. Если же параллельно эволюционируют двадцать признаков, то вероятность их «правильного» изменения за один акт видообразования составит менее одной миллионной.
Впрочем, надо признать, что некоторое продвижение на пути к сложной многомерной адаптации могло бы быть достигнуто, даже если бы прогресс наблюдался не по всем десяти (или двадцати) направлениям одновременно. В конце концов, сходное критическое замечание можно высказать и по поводу избирательной гибели особей: трудно найти индивидуальный организм, по всем параметрам соответствующий оптимуму. Мы вновь вернулись к различию в продолжительности циклов. Необходима количественная оценка, которая учла бы несопоставимо более долгое время, разделяющее гибель отдельных репликаторов в случае межвидового отбора по сравнению с генным отбором, а также приняла во внимание рассмотренную выше задачку по комбинаторике. Для того чтобы произвести такую оценку, я не располагаю ни данными, ни математическими способностями, но у меня есть смутная догадка о том, как методологически должна формулироваться подходящая нулевая гипотеза. Мне нравится думать, что для этого подойдет такой общий заголовок: «Что сделал бы Д’Арси Томпсон, будь у него компьютер». Соответствующие программы уже написаны (Raup et al., 1973). Предполагаю заранее, что объяснение эволюции сложных адаптаций с помощью межвидового отбора будет признано в целом неудовлетворительным.
Рассмотрим еще одну линию рассуждений, которой мог бы придерживаться сторонник межвидового отбора. Он мог бы заявить, что в своих комбинаторных расчетах я безо всякого на то основания исхожу из допущения, будто десять основных направлений эволюции китообразных независимы друг от друга. Действительно ли число возможных комбинаций должно радикально уменьшиться в связи с корреляцией между различными тенденциями? Тут важно понимать, что корреляции берут начало из двух различных источников: одни корреляции можно назвать сопутствующими, а другие приспособительными. Сопутствующая корреляция — это неизбежное следствие эмбриологических реалий. Например, маловероятно, что удлинение левой передней ноги может быть независимо от удлинения правой передней ноги. Любая мутация, вызвавшая одно, вероятнее всего, в силу своей природы, повлечет за собой и другое. То же самое может быть отчасти справедливо и для одновременного удлинения передних и задних ног, хотя это несколько менее очевидно. Вероятно, найдется немало еще менее очевидных примеров такого рода.
Приспособительная же корреляция не вытекает напрямую из механизмов развития. Филогенетической линии, которая переходит от наземного образа жизни к водному, вероятно, потребуются изменения как в опорно-двигательном аппарате, так и в дыхательной системе, и нет никаких явных причин предполагать между ними какую-то внутреннюю связь. Почему преобразование ног в ласты должно непременно коррелировать с усилением эффективности связывания кислорода в легких? Разумеется, две эти хорошо сочетающиеся тенденции могут оказаться сопутствующими друг другу следствиями эмбриональных механизмов, но положительная корреляция между ними не более вероятна, чем отрицательная. Мы опять возвращаемся к нашим комбинаторным вычислениям, хотя и с осознанием необходимости быть осторожнее при подсчете независимых направлений преобразования.
Ну и наконец приверженец межвидового отбора может отступить и призвать на помощь в качестве механизма для удаления неудачных сочетаний обычный естественный отбор на низшем уровне, так чтобы на сито межвидового отбора попадали уже проверенные и одобренные комбинации изменений. Но, как объяснил нам Гульд, такой «межвидовой селекционист» вовсе не тот, за кого себя выдает! Он признает, что все интересные эволюционные преобразования суть результаты межаллельного, а не межвидового отбора, пусть даже они и сосредоточены в кратких всплесках, разделяющих периоды застоя. Он уже согласен с невыполнением правила Райта. И теперь критика этого правила бесстыдно упрощается — именно это я имел в виду, говоря, что Гульд обнажил свое горло. Следует повторить, что сам Райт к названию правила отношения не имеет.
Теория межвидового отбора, берущая начало в представлениях о прерывистом равновесии, — это увлекательная идея, которая может неплохо объяснять некоторые отдельные направления количественных изменений в макроэволюции. Буду очень удивлен, если с ее помощью удастся объяснить те многомерные адаптации, которые меня интересуют: «часы Пейли[60]» или «органы чрезвычайного совершенства и сложности» — такие адаптации, которые требуют формирующей силы, не менее могущественной, чем божество. Отбор репликаторов, представляющих собой конкурирующие аллели, вполне может обладать достаточным могуществом. Но если репликаторы — конкурирующие виды, то я сомневаюсь в силе такого отбора, слишком уж медленно он будет протекать. Элдридж и Крэкрафт (Eldredge & Cracraft, 1980, р.269), по всей видимости, согласны: «Естественный отбор (различия в приспособленности или неравномерное размножение особей в популяции) — это подтверждаемый фактами внутрипопуляционный феномен, представляющий собой наилучшее из имеющихся объяснений происхождения адаптаций, их сохранения и возможной модификации». Если это истинная точка зрения всех «пунктуалистов» и «межвидовых селекционистов», то непонятно, о чем мы спорим.
Для простоты я обсуждал теорию межвидового отбора, рассматривая в качестве репликатора вид. Читатель, однако, заметит, что это больше похоже на то, чтобы считать репликатором организм с бесполым размножением. Ранее в этой главе мы показали, что критерий телесных повреждений вынуждает нас применять понятие «репликатор» только к геному, скажем, палочника, но никак не к самому насекомому. Точно так же и в модели межвидового отбора репликатором является не вид, а генофонд. Возникает искушение сказать: «Раз так, то давайте пойдем до конца и будем всегда, даже в модели Элдриджа — Гульда, считать репликатором ген, а не какую-то более крупную единицу». На это можно ответить, что если генофонд — действительно коадаптированная единица, гомеостатически сопротивляющаяся изменениям, то у него есть такое же право считаться отдельным репликатором, что и у генома самки палочника. Тем не менее, генофонду такое право обеспечено только при репродуктивной изоляции, подобно тому как геному — только при бесполом размножении. Да и в любом случае право это весьма эфемерно.
В этой главе мы уже установили, что организм определенно не может быть репликатором, в отличие от его генома — при условии бесполого размножения. Сейчас мы увидели, что иногда бывает позволительно рассматривать в качестве репликатора генофонд репродуктивно изолированной группы, к примеру, вида. Приняв это как допущение, мы можем представить себе эволюцию, направляемую отбором, происходящим между такими репликаторами, но, как я только что заключил, подобный отбор вряд ли объясняет существование сложных адаптаций. А есть ли еще какие-нибудь приемлемые кандидаты на звание репликатора, помимо небольшого генетического фрагмента, обсуждавшегося в предыдущей главе?
Мне уже приходилось выступать в поддержку репликатора абсолютно негенетической природы, процветающего только в сре&, образуемой высокоразвитыми, обменивающимися информацией мозгами. Я дал ему название «мем»[61] (Dawkins, 1976а). К сожалению, я, так же как Ламсден с Уилсоном (Lumsden & Wilson, 1980), если я их правильно понял, и в отличие от Клока (Cloak, 1975), не провел достаточно четкой границы между собственно мемом как репликатором, с одной стороны, и его «фенотипическими эффектами» или «меметическими продуктами» — с другой. Мем следует рассматривать как единицу информации, хранящейся в мозге («i-культура», по Клоку). Он имеет определенное строение, воплощенное в том материальном носителе информации, который использует наш мозг, каким бы этот носитель ни был. Если мозг хранит информацию в виде расположения синапсов, то мем теоретически можно увидеть под микроскопом как четко организованную синаптическую структуру. Если же информация в мозге «рассредоточена» (Pribram, 1974), то мем уже не разместить на предметном стекле, но, тем не менее, мне все равно хотелось бы считать его частью материального содержимого мозга. Это нужно, чтобы отделить мем от его фенотипических эффектов — влияний, которые он оказывает на окружающий мир (клоковская «m-культура»).
Фенотипические эффекты мема могут иметь форму слов, музыки, изображений, фасонов одежды, мимики и жестикуляции, а также навыков вроде открывания синицами молочных бутылок или мытья пищи японскими макаками. Все это внешние, видимые (слышимые и т. д.) проявления мемов, находящихся в мозге. Эти проявления могут восприниматься органами чувств других особей и воздействовать на мозг получателя таким образом, что в нем записывается копия исходного мема (не обязательно точная). Новая копия мема теперь имеет возможность распространять свои фенотипические эффекты, создавая в других мозгах копии уже самой себя.
Для большей ясности вернемся к ДНК, нашему изначально привычному репликатору. Он воздействует на мир двумя важными способами. Во-первых, копирует сам себя, используя для этого клеточный аппарат, оснащенный полимеразами и т. д. Во-вторых, он влияет на внешний мир, меняя тем самым на шансы выживания своих копий. Первому из этих действий соответствует то, как мем использует аппарат общения и имитации для самоко-пирования. Если в социальной среде, где обитают индивидуумы, распространено подражательство, то это напоминает внутриклеточную среду, обогащенную ферментами для копирования ДНК.
Ну а как насчет второй группы эффектов ДНК — тех, которые обычно называются «фенотипическими»? Какой вклад вносят фенотипические эффекты мема в успех или неуспех его тиражирования? Ответ будет тот же, что и для генетического репликатора. Любое воздействие, оказываемое мемом на поведение тела, в котором он находится, может иметь значение для выживания этого мема. Мем, заставляющий тела, в которые он попадает, бросаться с обрыва, разделит судьбу гена, заставляющего несущие его тела бросаться с обрыва. Он будет удаляться из мемофонда. Но подобно тому как для генетических репликаторов содействие выживанию организмов — только одна из составляющих успеха, точно так же и у мемов найдется немало других способов проявления, способствующих самосохранению. Если фенотипический эффект мема — мелодия, то чем она привязчивее, тем выше вероятность ее воспроизведения. Если это научная идея — то возможность ее распространения по мозгам ученых всего мира будет зависеть от ее совместимости с комплексом идей, уже укоренившихся. А политическая или религиозная идея поможет себе выжить, если одним из ее фенотипических эффектов будет резко нетерпимое отношение тех тел, в которых она находится, к новым и незнакомым идеям. У мема свои собственные возможности для репликации и собственные фенотипические эффекты. Нет сколько-нибудь явных причин связывать успех мема с генетическим успехом.
Многим моим корреспондентам-биологам это кажется самым слабым пунктом всей теории мемов (Greene, 1978; Alexander, 1980, р.78; Staddon, 1981). Я же не вижу здесь проблемы, или, вернее, я действительно вижу здесь проблему, но не считаю, что для таких репликаторов, как мемы, она сколько-нибудь серьезнее, чем для генов. Коллеги-социобиологи то и дело упрекают меня в предательстве, потому что я никак не могу согласиться с тем, что определяющим критерием успеха мема должен быть его вклад в дарвиновскую «приспособленность». В первую очередь, настаивают они, «хороший мем» распространяется, потому что мозг обладает восприимчивостью к нему, а восприимчивость мозга в конечном итоге сформирована естественным отбором (генетическим). Сам тот факт, что одни животные подражают другим, должен, в конечном счете, объясняться с точки зрения их приспособленности по Дарвину.
Но ведь в дарвиновской приспособленности нет ничего мистического для генетика. Нет никакого закона, дающего ей приоритет перед основным максимизируемым параметром. Приспособленность — это всего лишь один из способов говорить о выживании репликаторов, в данном случае, генетических. Если возникнет какой-то новый феномен, попадающий под определение активного репликатора зародышевого пути, то те разновидности нового репликатора, которые стремятся обеспечить свое выживание, будут иметь тенденцию становиться многочисленнее. Чтобы быть последовательными, мы могли бы разработать новое понятие «индивидуальной приспособленности», служащей мерилом успеха индивидуума в распространении своих мемов.
Разумеется, справедливо следующее высказывание: «Мемы всецело зависят от генов, но гены могут существовать и изменяться вполне независимо от мемов» (Bonner, 1980). Но отсюда не следует, что при отборе мемов определяющим критерием будет выживаемость генов. Не всегда успех будут иметь те мемы, которые помогают генам организмов, в которых находятся. Конечно же, нередко все обстоит именно так. Очевидно, что у мема, заставляющего тела, в которые он попадает, кончать с собой, будут серьезные трудности, но необязательно фатальные. Как гены самоубийства могут распространяться окольными путями (например, у рабочих особей общественных насекомых или в случаях родительского самопожертвования), точно так же и самоубийственный мем может распространиться, если эффектное и хорошо разрекламированное мученичество вдохновляет других погибнуть во имя горячо любимой цели, что, в свою очередь, вдохновляет следующих, и так далее (Vidal, 1955).
Справедливо и то, что на успех выживания того или иного мема глубочайшим образом влияют социальные и биологические условия, в которых мем оказался, а условия эти, несомненно, зависят от генетического состава популяции. Но также они зависят и от того, какие мемы уже многочисленны в мемофонде. Эволюционные генетики вполне сжились с идеей о том, что успех одного аллеля относительно другого может быть связан с тем, какие гены из других локусов преобладают в генофонде, о чем я уже упоминал в связи с образованием «коадаптированных геномов». Статистическая структура генофонда формирует атмосферу или среду, влияющую на успех любого отдельно взятого гена относительно его аллелей. На одном генетическом фоне отбор может благоприятствовать одному аллелю, на другом — его конкуренту. Например, если в генофонде преобладают гены, заставляющие животных селиться в засушливых местах, то это направит давление отбора в пользу генов водонепроницаемой кожи. Но если окажется, что в генофонде доминируют гены, вызывающие склонность к сырым местообитаниям, то преимущество будет на стороне аллелей кожи менее плотной и более пористой. Совершенно очевидно, что отбор в любом конкретном локусе взаимосвязан с отбором в других локусах. Как только филогенетическая линия начинает эволюционировать в определенном направлении, многие локусы становятся вынуждены шагать в ногу, и возникающие положительные обратные связи увлекают эволюцию организмов все дальше и дальше по установившемуся курсу, несмотря на влияния, идущие из окружающего мира. Важным фактором среды, решающим выбор между аллелями в любом отдельном локусе, будут гены из других локусов, уже преобладающие в генофонде.
Сходным образом, важным фактором отбора, действующего на любой конкретный мем, будут другие мемы, которым уже посчастливилось стать преобладающими в мемофонде (Wilson, 1975). Если в обществе доминируют марксистские или фашистские мемы, то успех репликации любого нового мема будет зависеть от его совместимости с имеющимся фоном. Положительные обратные связи могут подтолкнуть основанную на мемах эволюцию в направлениях, никак не связанных с направлениями эволюции, основанной на генах, или даже в противоположную сторону. Я согласен с Пуллиамом и Данфордом (Pulliam & Dunford, 1980) в том, что эволюция культуры «обязана генетической эволюции своим возникновением и законами, но движима во многом другими силами».
Конечно, есть большие различия между отбором среди мемов и генов (Cavalli-Sforza & Feldman, 1973, 1981). Мемы не выстраиваются вереницами в длинные хромосомы, нам неизвестно, занимают ли они обособленные «локусы», за которые конкурируют, и есть ли у них поддающиеся идентификации «аллели». По-видимому, как и в случае генов, мы можем строго рассуждать только о фенотипических различиях, даже если речь идет о просто различиях в поведении, порождаемом мозгом, содержащим определенный мем, и мозгом, не содержащим его. Процесс копирования здесь, вероятно, гораздо менее точен, чем у генов, — не исключена определенная «мутационная» составляющая при каждом случае копирования (и это, между прочим, верно также и для «межвидового отбора», обсуждавшегося ранее в этой главе). Мемы могут частично перемешиваться друг с другом недоступными для генов способами. Новые «мутации» мемов могут быть не случайными, а «направленными» по отношению к общему ходу эволюции. Вейсманизм[62] не применим к мемам так строго, как к генам: тут возможны причинно-следственные связи «ламаркистского» толка, направленные от фенотипа к репликатору, а не только в противоположном направлении. Всех этих несхожестей может показаться достаточно, чтобы счесть аналогию с генетическим естественным отбором бесполезной и даже решительно сбивающей с толку. Я лично подозреваю, что эта аналогия ценна главным образом не тем, что поможет нам понять человеческую культуру, а тем, что отточит наши представления о генетическом естественном отборе. Это единственная причина, по которой я так самонадеянно затронул данную проблему, ведь чтобы рассуждать о ней авторитетно, я недостаточно знаком с имеющейся культурологической литературой.
Как ни относись к тому, чтобы считать мемы репликаторами в том же смысле, что и гены, в первой части этой главы было установлено, что индивидуальные организмы — не репликаторы. Тем не менее, очевидно, что они представляют собой функциональные единицы большой важности, и настало время точно выяснить, какова их роль. Если организм не репликатор, то что же он такое? Ответ: транспортное средство, общественный транспорт для репликаторов. Транспортным средством мы называем объект, в котором репликаторы (гены и мемы) путешествуют, и на свойства которого они влияют изнутри, — сложно устроенное приспособление для распространения репликаторов. Но индивидуальные организмы не единственная категория, представителей которой можно считать транспортными средствами в этом смысле. Существует иерархия объектов, входящих в состав более крупных объектов, и понятие транспортного средства может быть применимо к любому из уровней этой иерархии.
Иерархическая концепция имеет всеобщее значение. Химики считают, что материя образована примерно сотней различных типов атомов, взаимодействующих друг с другом посредством своих электронов. Атомам свойственна общительность, они формируют громадные скопления, которые подчиняются законам, действующим уже на уровне этих скоплений. Вот почему мы можем, не противореча законам химии, забыть об атомах, когда думаем о крупных кусках материи. Объясняя, как работает автомобиль, мы не оперируем атомами и вандерваальсовыми силами, предпочитая говорить о цилиндрах и свечах зажигания. Это поучительное рассуждение относится не только к атомам и головкам цилиндров. Существует иерархия, распространяющаяся от находящихся ниже атомного уровня элементарных частиц через молекулы и кристаллические решетки вплоть до махин, которые мы способны различить невооруженными органами чувств.
Живая материя добавляет к лестнице сложности много новых ступенек: макромолекулы, сворачивающиеся в третичную структуру, затем внутриклеточные мембраны и органоиды, клетки, ткани, органы, организмы, популяции, сообщества и экосистемы. Похожая иерархия единиц, составляющих более крупные единицы, характерна для сложных искусственных изделий, создаваемых живыми организмами: полупроводниковые кристаллы, транзисторы, интегральные схемы, компьютеры и встроенные в них странные элементы, называемые «программами». На каждом уровне единицы взаимодействуют друг с другом в соответствии с присущими этому уровню законами, которые нельзя просто свести к законам, действующим на более низких уровнях.
Все это говорилось уже много раз, и так очевидно, что почти банально. Но порой нужно повторять банальности, для того чтобы удостовериться, что ты не сбился с верного пути! Особенно если ты хочешь привлечь внимание к не совсем обычному типу иерархии, что может быть ошибочно воспринято как нападение на само это понятие. Редукционизм — неприличное слово, и рассуждения вроде «я больший холист, чем ты» стали модной разновидностью самодовольства. Я с энтузиазмом следую за этой модой, когда говорю о механизмах, действующих внутри живых существ, и уже выступал за то, чтобы объяснять поведение в терминах «нейроэкономики» и «программного обеспечения», а не с помощью традиционной нейрофизиологии (Dawkins, 1976b). Я поддержу и аналогичный подход к индивидуальному развитию. Но иногда холистическая проповедь становится легкодоступной заменой мышления, и, по-моему, один из примеров такого случая — полемика о единицах отбора.
Неовейсманистская точка зрения на жизнь, пропагандируемая этой книгой, выделяет в качестве фундаментальной единицы объяснения генетический репликатор. Я полагаю, что в функциональных, телеономических объяснениях он играет роль атома. Если мы желаем говорить об адаптациях как о явлениях, существующих «для блага» чего-то, значит, это что-то — активный репликатор зародышевого пути, маленький кусочек ДНК, единичный «ген», в соответствии с некоторыми из определений гена. Но я, конечно, не думаю, будто небольшие генетические единицы действуют изолированно друг от друга, так же как и химик не думает так об атомах. Подобно атомам, гены чрезвычайно общительны. Они зачастую выстраиваются в хромосомы, группы хромосом заворачиваются в ядерные мембраны, окутанные цитоплазмой и окруженные клеточной мембраной. Клетки тоже обычно не изолированы, они размножаются, образуя гигантские конгломераты, известные как организмы. Мы снова пришли к хорошо знакомой нам иерархической схеме со встроенными один в другой уровнями, и нам нет надобности покидать ее. Если говорить о функциях, то гены общительны и в этом смысле. Они оказывают на тела фенотипические воздействия, но делают это не в одиночку. В который раз я подчеркиваю это здесь.
Причина, по которой меня могут принять за редукциониста, состоит в том, что я настаиваю на атомистических представлениях о единицах отбора, когда речь идет о тех единицах, которым фактически удается или не удается выжить. Но если разговор заходит о формировании фенотипических приспособлений, с помощью которых они выживают, то тут я убежденный интеракционист:
Конечно, это правда, что понятие «фенотипический эффект гена» лишено смысла вне окружения, образованного многими или даже всеми генами данного генома. Однако, как бы сложно ни был устроен организм, как бы мы ни были согласны в том, что он представляет собой единицу функционирования, я по-прежнему считаю заблуждением называть его единицей отбора. Гены могут взаимодействовать, даже «смешиваться» в своих воздействиях на эмбриональное развитие сколько вам угодно. Но они не смешиваются, когда дело доходит до передачи их следующим поколениям. Я не пытаюсь преуменьшить значение индивидуального фенотипа для эволюции. Я только хочу точно вычленить его роль. Это наиважнейший инструмент для сохранения репликаторов, но это не то, что сохраняется (Dawkins, 1978а, р. 69).
В данной книге я под выражением «транспортное средство» подразумеваю целостный и согласованно действующий «инструмент для сохранения репликаторов».
Транспортное средство — это любой объект, достаточно обособленный, чтобы заслуживать отдельного наименования, который вмещает в себя комплект репликаторов и служит единицей их сохранения и размножения. Повторюсь, транспортное средство — не репликатор. Мерилом успеха репликатора является его способность выживать в форме копий. А успех транспортного средства измеряется способностью распространять репликаторы, разъезжающие в нем. Наиболее очевидным и типичным примером транспортного средства является индивидуальный организм, но, возможно, это не единственный уровень в иерархии живого, к которому можно применить такое название. Мы можем рассматривать хромосомы и клетки в качестве вероятных транспортных средств на уровнях ниже организменного, а группы и сообщества — на более высоких уровнях. Если разрушить транспортное средство, то, вне зависимости от его уровня, погибнут и заключенные в нем репликаторы. Следовательно, естественный отбор будет — по крайней мере, до некоторой степени — благоприятствовать репликаторам, заставляющим свои экипажи сопротивляться разрушению. Это в принципе должно быть верно для группы организмов, так же как и для отдельных особей, поскольку если гибнет группа, то погибают и гены, которые в ней содержатся.
Выживание транспортных средств — это, впрочем, только полдела. Репликаторы, которые способствуют «размножению» транспортных средств на разных уровнях организации, будут более процветающими, чем их соперники, занятые только выживанием. Размножение на уровне организма достаточно хорошо изучено и не требует дальнейшего обсуждения. Размножение на уровне группы несколько более сомнительно. В принципе можно сказать, что группа размножилась, если она выделила «пропагулу», скажем, стайку молодых организмов, которая ушла и основала новую группу. Идее об иерархии вложенных друг в друга уровней, на которых мог бы идти отбор — отбор транспортных средств в моем понимании — особое значение придается Уилсоном (Wilson, 1975) в его главе о групповом отборе (см., например, рисунок 5–1 его книги).
Ранее я уже излагал причины, по которым разделяю всеобщий скептицизм насчет «группового отбора», а также отбора на других высоких уровнях, и ни одна из недавних работ не соблазнила меня пересмотреть свои взгляды. Но не в этом суть обсуждаемой здесь проблемы. Сейчас моя основная мысль состоит в том, что необходимо четко разделять два типа понятий: репликаторы и транспортные средства. Я предположил, что наилучший способ понять теорию Элдриджа и Гульда о «межвидовом отборе» — это рассматривать виды в качестве репликаторов. Но большинство моделей, обычно называемых «групповым отбором», в том числе все, рассмотренные Уилсоном (Wilson, 1975), и почти все из тех, которые рассматривает Уэйд (Wade, 1978), подразумевают, что группы — транспортные средства. Конечный результат обсуждаемого отбора — это изменение частот встречаемости генов, например, возрастание численности «альтруистичных генов» за счет «эгоистичных генов». В качестве репликаторов рассматриваются все те же гены: они на самом деле выживают (или не выживают) вследствие процесса отбора (транспортных средств).
Я испытываю предубеждение к самой идее группового отбора в связи с тем, что ей в жертву было принесено гораздо больше теоретической изобретательности, чем это оправдано научными интересами. Как мне сообщил редактор одного из ведущих математических журналов, его непрестанно заваливают хитроумнейшими статьями, претендующими на нахождение квадратуры круга. В самом факте доказанной невозможности есть что-то такое, что воспринимается определенной разновидностью интеллектуалов-дилетантов как вызов, которому невозможно сопротивляться. Некоторые изобретатели-любители точно так же очарованы вечным двигателем. Историю с групповым отбором вряд ли назовешь аналогичной: его невозможность никогда не была, да и не могла быть, доказана. Тем не менее, надеюсь, мне простят, если я поинтересуюсь, а не коренится ли устойчивая романтическая притягательность группового отбора в том авторитетном «разносе» этой теории, который не прекращается с тех самых пор, как Уинн-Эдвардс (Winne-Edwards, 1962) сделал нам большое одолжение, изложив ее в неприкрытом виде. Антигрупповой селекционизм стал общепринятым в научных кругах, и, как замечает Мэйнард Смит (Maynard Smith, 1976а), «для науки естественно, что как только мнение становится общепринятым, оно должно быть подвергнуто критике». Это, несомненно, здраво, однако Мэйнард Смит сдержанно продолжает: «Из этого не следует, что раз мнение является общепринятым, то оно ошибочно». Более благожелательное отношение к групповому отбору можно найти в работах Джилпина (Gilpin, 1975), Э. О. Уилсона (Wilson, 1975), Уэйда (Wade, 1978), Бурмана и Левитта (Boorman & Levitt, 1980), а также Д. С. Уилсона (Wilson, 1980; см., однако, критику Графена — Grafen, 1980).
Я не собираюсь снова вступать в дебаты, в которых групповой отбор противопоставлялся бы индивидуальному. Это связано с тем, что главная цель этой книги — указать на слабость всей концепции транспортного средства, чем бы оно ни было: индивидуальным организмом или группой. Поскольку даже самый непоколебимый групповой селекционист согласится с тем, что особь — куда более оформленная и важная «единица отбора», я сосредоточу свою атаку на ней как на типичном, в отличие от группы, транспортном средстве. Аргументы против группы будут упрочены по умолчанию.
Может создаться впечатление, что я специально выдумал понятие «транспортное средство» в качестве этакого мальчика для битья. Отнюдь нет. Я просто использую это название, чтобы выразить идею, которая является основополагающей для ныне господствующих взглядов на естественный отбор. Общепризнано, что в неком глобальном смысле естественный отбор заключается в дифференциальном выживании генов (или, шире, генетических репликаторов). Но гены не голые, они действуют через организмы (или группы и т. д.). И хотя в конечном итоге единицей отбора действительно может быть генетический репликатор, в качестве более непосредственной единицы отбора обычно рассматривается нечто более крупное, чаще всего отдельная особь. Так, Майр (Mayr, 1963) уделяет целую главу тому, чтобы продемонстрировать нам функциональную слаженность всего генома индивидуального организма. Я подробно обсужу идеи Майра в главе 13. Форд (Ford, 1975, р.185) пренебрежительно отмахивается от «заблуждения», будто «единица отбора — ген, в то время как это индивидуум». Гульд (Gould, 1977b) пишет:
Отбор просто-напросто не может видеть гены и напрямую выбирать среди них. Ему приходится использовать организмы как посредников. Ген — это кусочек ДНК, спрятанный внутри клетки. Отбор видит организмы. Некоторым из них он благоприятствует, потому что они сильнее, обособленнее, раньше созревают, агрессивнее дерутся или привлекательнее выглядят… Если бы отбор, благоприятствуя сильному телу, воздействовал непосредственно на ген силы, тогда позиция Докинза была бы оправдана. Если бы тела представляли собой точные карты своих генов, тогда воюющие кусочки ДНК обозначили бы свои территории разными цветами и отбор между ними шел бы напрямую. Но организмы не таковы… Их нельзя разделить на кусочки, каждый из которых построен отдельным геном. В формирование большинства частей тела вносят свой вклад сотни генов, и их действие направляется меняющимися, как в калейдоскопе, факторами среды: эмбриональными и постнатальными внутренними и внешними.
Ну, если бы это действительно было хорошим аргументом, то это был бы аргумент не только против представления о генах как о единицах отбора, но и против всей менделевской генетики. В самом деле, фанатик ламаркизма X. Г. Кэннон недвусмысленно использует именно его: «Живой организм не является ни чем-то изолированным, ни набором частей, каким его видел Дарвин, напоминающим, как я уже говорил, столько-то шариков в коробочке. В этом трагедия современной генетики. Приверженцы гипотезы неоменделизма рассматривают организм как столько-то признаков, контролируемых столькими-то генами. Сколько бы они ни рассуждали о полигенах[63], именно в этом — суть их фантастической гипотезы» (Cannon, 1959, р.131).
Большинство согласится, что это плохой аргумент против менделевской генетики, и он ничуть не более эффективен против того, чтобы рассматривать ген в качестве единицы отбора. Ошибка, которую совершают и Кэннон, и Гульд, состоит в том, что у них не получается отделить генетику от эмбриологии. Менделизм — это теория о корпускулярном наследовании, а не о корпускулярном развитии. Аргумент, приведенный Кэнноном и Гульдом, — это веский довод против корпускулярной эмбриологии и в пользу эмбриологии смешанного действия. Я сам привожу подобные аргументы в других местах этой книги (например, аналогия с пирогом в разделе главы 9, названном «Несостоятельность преформизма»). Гены на самом деле могут смешиваться, пока речь идет об их влиянии на развивающиеся фенотипы. Но, как я уже достаточно подчеркивал, они не смешиваются, когда копируются и рекомбинируют в рядах поколений. Именно это является важным для генетика, и именно это важно для того, кто изучает единицы отбора.
Гульд продолжает:
Итак, части тела — это не то же, что транслированные гены, а отбор не оказывает непосредственного действия даже на части тела. Он сохраняет или отбрасывает организмы целиком в зависимости от того, какие преимущества дают им сложные взаимодействия наборов частей тела. Образ отдельных генов, разрабатывающих стратегии своего выживания, имеет мало отношения к генетике развития, как мы ее себе представляем. Докинзу требуется другая метафора: гены проводят совещания, формируют альянсы, относятся почтительно к возможности заключить договор, оценивают возможные условия среды. Но когда вы смешаете так много генов и свяжете их в узел иерархических взаимодействий, опосредованных окружающими условиями, то в итоге вы получите объект, который мы называем организмом.
Тут Гульд ближе подбирается к истине, хотя истина и тоньше, как я надеюсь показать в главе 13. В предыдущей главе уже был намек на суть дела. Если коротко, то гены «проводят совещания» и образуют «альянсы» вот в каком смысле. Отбор благоприятствует тем генам, которые преуспевают в присутствии других генов, преуспевающих, в свою очередь, в их присутствии. Таким образом, в генофондах возникают наборы генов, обладающих взаимной совместимостью. Это более тонкая и более плодотворная точка зрения, чем говорить «в итоге вы получите объект, который мы называем организмом».
Разумеется, отбор не видит гены напрямую. Очевидно, что они отбираются на основании своих фенотипических проявлений, и, конечно же, само существование этих эффектов возможно только при взаимодействии с сотнями других генов. Однако основное положение данной книги состоит в том, что мы не должны попадать в ловушку представления, будто фенотипические эффекты аккуратно ограничены обособленными организмами (или иными обособленными транспортными средствами). Теория расширенного фенотипа утверждает, что фенотипическое проявление гена (генетического репликатора) лучше рассматривать как его влияние на мир в целом, тогда как его воздействие на индивидуальный организм — или на любое другое транспортное средство, в котором гену довелось оказаться, — является лишь частным случаем этого более общего влияния.
| <<< Назад Глава 5. Активный репликатор зародышевого пути |
Вперед >>> Глава 7. Эгоистичная оса или эгоистичная стратегия? |
- Предисловие научного редактора
- Предисловие
- Примечание ко второму изданию
- Глава 1 Куб Неккера и буйволы
- Глава 2. Генетический детерминизм и генный селекционизм
- Глава 3. Пределы совершенства
- Глава 4. Манипуляции и гонка вооружений
- Глава 5. Активный репликатор зародышевого пути
- Глава 6. Организмы, группы и мемы: репликаторы или транспортные средства?
- Глава 7. Эгоистичная оса или эгоистичная стратегия?
- Глава 8. Отщепенцы и модификаторы
- Глава 9. Эгоистичная ДНК, скачущие гены и призрак ламаркизма
- Глава 10. Головная боль в пяти «приступособлениях»
- Глава 11. Генетическая эволюция артефактов животных
- Глава 12. Гены паразитов — фенотипы хозяев
- Глава 13. Действие на расстоянии
- Глава 14. Заново открывая организм
- Послесловие. Дэниел Деннет
- Список цитированной литературы
- Список рекомендуемой литературы
- Содержание книги
- Популярные страницы
- Микроорганизмы в воде
- Человек и микроорганизмы
- Химия и микроорганизмы
- Микроорганизмы на службе химии
- § 67. Воздействие на организмы некоторых экологических факторов
- 8. Микроорганизмы и сельское хозяйство
- 4.4. Живые организмы как среда обитания
- Почва и микроорганизмы
- 7. Где живут микроорганизмы?
- 2.3. Общие законы действия факторов среды на организмы
- Биосфера и микроорганизмы
- Чем питаются автотрофные микроорганизмы?