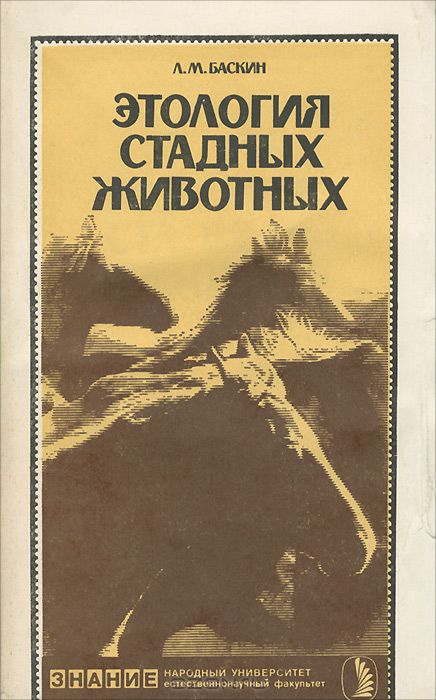Книга: Этология стадных животных
Чабаны Алая
| <<< Назад Архары Бадхыза |
Вперед >>> Опасное пастбище |
Чабаны Алая

Как бы ни старался я разъяснить сугубую научность моих интересов, но приезд москвича из академии неминуемо вызывал у руководства совхозов настороженность, стремление показать мне только лучшее. Вскоре я перестал сопротивляться: лучшие чабаны всегда оказывались и наиболее опытными, а главное, любящими свое дело.
Я с улыбкой воспринял обещание директора совхоза «Чон Алай», что увижу лучшего чабана, «нашего советского миллионера». Вообще-то нигде чабаны не бедны, разводить скот всегда было делом выгодным, хотя и рискованным. И все же такая рекомендация меня заинтересовала.
Рано утром к гостинице подошла машина, погрузили мои баулы, поехали в горы. Километров двадцать ехали по Алайской долине, миновали небольшой поселок — центр одного из отделений совхоза, и дальше уже вдоль горной речки по дну ущелий углублялись в горы. Через десяток километров впереди вдруг посветлело, борта ущелья расступились, открылась большая, сверкавшая ослепительной снежной белизной поляна, а за ней просторная панорама гор. На три стороны от поляны разошлись горные долины, пологими ступенями зашагали выше и выше хребты вплоть до зубчатой пилы скал, далеко вверху окаймлявших урочище.
На поляне, через речку одна от другой расположились две зимовки, в каждой — кошара, загон для овец, домик для людей. Но одна из зимовок побогаче — и кошара новая, просторная, и домик побольше. Располагалась она у подножия крутого склона, где не так задувал ветер. Вокруг зимовок и в загонах снег дочерна утоптан овцами, торные широкие тропы ведут в горы.
Мы подъехали к зимовке, что получше. Вышел хозяин — невысокий, худощавый, молчаливый, с вислыми усами в углах рта. Меня сопровождал зоотехник, он и объяснил цель приезда, приказал сгрузить вещи.
Зоотехник торопился, довольно скоро я остался один. Хозяин что-то мастерил в кошаре. В доме еще была женщина и двое детей, но они, смущенные происходящим, держались тихо, больше во дворе. Пока что до меня никому не было дела.
Я огляделся. В этом доме мне предстояло прожить несколько месяцев. Дверь открывалась прямо во двор. По той стороне, где дверь, но в другом углу, — железная печь, постоянно топившаяся кизяком. Крупные куски его, принесенные про запас, лежали рядом с печью в деревянном ящике. По другой стороне комнаты уложены высокой стопой ковры, одеяла, подушки. Днем на полу лежали лишь войлочные кошмы.
Первый день тянулся для меня медленно, скучно. Я побродил по поляне, но далеко от дома не отлучался. Было важно с первых же часов наладить хорошие отношения с хозяином, а мне казалось, что ему не понравится, если я буду бесцеремонно всюду расхаживать, все рассматривать.
Часам к шести вечера хозяин стал рассыпать по кормушкам подкормку для овец: дробленое зерно вперемешку с сеном. Я принялся ему помогать. Работа шла молча, как чабан относится к моей помощи, было неясно. В кошаре за перегородкой для овец была ссыпана горкой подкормка. Я накладывал дробленку лопатой в мешок, взваливал его на плечи, нес до кормушек и рассыпал. Один раз чабан поправил меня:
— Не надо много, выбросят на землю.
Уже в сумерках пришла отара в сопровождении второго чабана. Хозяева старались придержать овец, помешать им всем скопом кинуться к кормушкам. В первых рядах были козы. Они долго не могли успокоиться, все перебегали от кормушки к кормушке, словно где-то еда была слаще. Постепенно волнение улеглось, все пристроились. Лишь самые непоседливые время от времени переходили к другой группе, с ходу втискивались, пробивались к кормушке. Одна коза забралась в кормушку с ногами и в результате совсем не могла есть: из-за опущенных в кормушку голов ей было не дотянуться до дробленки. Чабаны согнали козу вниз.
Я держался в стороне, не хотел мешать чабанам, еще не зная принятого ими порядка работы. Вспотев, разнося в мешках корм, я сильно мерз, но уйти в дом к женщинам и детям тоже было неудобно. Нудно и неопределенно тянулся вечер. Наконец-то отара вошла в кошару, а мы собрались вокруг клеенчатой скатерти с угощением для чая.
Хозяин вдруг обратился ко мне с речью. Лицо его по-прежнему было неулыбчиво.
— Меня зовут Уку Сайтов. Это мой брат — Тойчо Сайтов. Тебя как зовут?
— Лёня.
— Сколько будешь здесь жить?
— Три месяца.
— Что будешь делать?
Я, насколько мог понятно, объяснил. Оба брата хорошо понимали по-русски.
Я приехал работать, а получилось так, что на время вошел в семью чабанов. Их дом, где жили мать, жена Уку, дети, находился в поселке, а здесь на пастбище нас обслуживала жена Тойчо — Зура. В однокомнатном домике мы могли жить только одной семьей. Вместе ели, вместе одевались, спали, расположившись рядом на полу. Перед этим Зура расстилала ковры, матрасы, одеяла. Лишь одну привилегию мне могли предоставить — спать в углу. Рядом устраивался Уку, дальше Тойчо, Зура, дети.
Утром дул сильный ветер, крутил снег, было холодно. Овцы уходили от кошары неохотно, жались плотнее друг к другу. Те, что оказались с наветренной стороны, постепенно обтекали отару справа и слева, старались спрятаться позади нее от ветра. Мы свернули в долинку и медленно потянулись вверх. У нашей отары были всего две дороги наверх. Вскоре и я хорошо знал все ложбинки, отроги, склоны. Тем более их знала отара, кормившаяся на этих пастбищах уже шестой год.
Наша отара состояла из маток. Шесть лет назад они попали на попечение Саитовых, дважды в год давали шерсть, весной ягненка, и по прошествии восьми лет старыми и больными должны были окончить свой путь.
Тогда новая, молодая отара примет заботу чабанов. Жизнь людей здесь измерена жизнью отары. Мой первый выход в горы был и первой проверкой на выживаемость. Не все могут работать на высоте четыре тысячи метров, и большинству людей требуется привыкание. Еще накануне я делал пробежки, пытаясь почувствовать, хватает ли дыхания и сил. Почему-то стеснялся такого занятия и старался, чтобы чабаны его не видели.
Теперь же надо было штурмовать крутой подъем, к тому же не отставать от отары, довольно споро вползавшей наверх. К моей радости, работа на высоте оказалась для меня нетрудной. По крайней мере хватало воздуха, не было головокружения. Однако лазать по крутым склонам само по себе было делом нелегким.
Отара шла сплошной массой вверх по ручью недолго. Я насчитал лишь две тысячи своих шагов. Потом Тойчо, поднявшись выше овец, закричал: «Кой, кой! Та! Та!» Начал свистеть, и тотчас отара, сбавляя ход, стала растекаться по склону на выпас.
Всюду по снегу были натоптаны тропинки, по которым семенили вереницы овец. Они бодро разбивали снег, добирались до травы, кормились. Однако те, что двигались впереди, были непоседливы, и вскоре вся масса вновь устремлялась за ними.
Зубья скал частоколом окружали наше урочище. От скал по ложбинкам спускались каменистые, обдутые ветром осыпи. Ниже они переходили в снежные поля, по которым тут и там прочертили дорожки скатившиеся сверху камни. В нескольких местах, там, где зубья скал почему-то были выбиты, начинались долины ручьев, быстро углублявшихся в лабиринт мелких хребтов, сбегавших к поляне, где кошары.
Сверху было хорошо видно, как поднимаются по ручьям отары. В нашем урочище их жило четыре: две на поляне, еще две по боковым долинам. Поднимаясь, мы сверялись с тем, как двигаются наши товарищи.
К двенадцати мы выбрались к подножиям осыпей. Прямо над нами, уже совсем близко, возвышалась красная пила скал. Над ними — только небо. Овцы тут же рассеялись, прекратили движение, жадно кормились. Чуть позже или раньше на такую же высоту поднялись и наши соседи.
Удивительное чувство испытывают чабаны, глядя на мир с высоты, взмахами рук приветствуя товарищей, таких же, как и мы, поднебесных работников. Тойчо взял у меня бинокль, поочередно взглянул на друзей. Ближе всех к нам пасли Харбек и Бере, за Карасу ходила отара Джалаля, дальше всех братья Мойдуновы.
Пока овцы разошлись по плоскотинам, мы с Тойчо развели костерок, вскипятили чай, перекусили. То же самое делали и соседи. И у них поднялись к небу белые дымки. Было совсем тихо. Слабое зимнее солнце почти не согревало горы, воздух не колебался над ними теплым маревом, и величественная панорама вокруг была неподвижна. Мирные костры наших товарищей делали горы обжитыми. Мы были с Тойчо не одиноки.
Тойчо тронул меня за рукав, показал вниз, где двое всадников, не торопясь, шагом ехали над ущельем.
— Уку и Бере, неразлучные товарищи, куда-то поехали. — Тойчо внимательно рассматривал их в бинокль. — Взяли с собой сумы, куда могли поехать?
С высоты мы долго провожали всадников взглядом. Тойчо все не мог успокоиться, размышлял, куда бы мог поехать старший брат.
Вечером, подходя вслед за отарой к дому, я мысленно перебирал, что успел за день сделать. Измерен проход отары за день, сколько шагов пройдено ею маршем, сколько с выпасом. Сделана первая схема урочища, на ней нанесен путь отары. Я уже представлял себе, как со временем вся схема покроется сетью пройденных маршрутов. Станет ясен порядок использования отарой пастбищ. Нужно будет измерить глубину снега на склонах, описать растительность. Особую свою задачу я видел в изучении скоплений животных. Еще по Туркмении мне были знакомы «походные колонны» — цепочки марширующих друг за другом животных. Но здесь, в тесноте гор, значение этих колонн неизмеримо возрастало. Овцы рассыпались по склонам лишь ненадолго, вскоре вновь устремлялись друг за другом вперед. И если чабан вовремя не перехватывал их, вся отара начинала маршировать, неизвестно в какие дали. Тойчо в таких случаях говорил: «Кой кеттен» (баран пошел). Бежать по крутым склонам через глубокие ущелья наперехват отаре было нелегко. А крики запрета: «Кой… кой… та… та…» — не всегда останавливали овец.
Я заметил, что Тойчо знал места, где отара могла уйти, заранее отрезал овцам путь. Он старался не допустить, чтобы отара бросила пастьбу, вмешивался, останавливал возникшее «течение». И все же это явление было главной бедой для чабана, а для меня — лакомой проблемой.
Уку встречал нас у кошары, корм был уже рассыпан по корытам, словно старший чабан никуда не отлучался. Делать мне было нечего, и все же я не хотел раньше товарищей уйти в дом. Вместе ходили, одинаково мерзли, неудобно было делать себе поблажку.
— Ara, мясо есть, — обрадовался Тойчо, едва переступив порог. Запах в небольшом домике действительно был очень аппетитен. Нас поджидал Бере, чабан с соседней зимовки. Нас познакомили. Зура начала вытаскивать куски из казана на деревянное корытце, а мы наскоро переобулись, сели в кружок. Тойчо поднес мне, Бере, Уку тазик, слил теплой воды на руки, передал протянутое Зурой полотенце. Потом постелил клеенку. Зура подносила пиалы, баурсаки, лук, а Тойчо быстро все это раскладывал, порезал дольками лук. Начали с бульона. Тойчо налил его в большие пиалы, поднес каждому из нас. Зура и дети устроились отдельным кружком.
После бульона ели мясо, потом пили чай. Пир удался на славу. Как видно, Уку затеял его в честь моего приезда, приветствовал гостя. Между прочим, чабаны, смеясь, спросили меня, понравился ли мне вкус мяса. Не понимая, в чем подвох, я попытался вспомнить, отличался ли вкус от обычной говядины? Оказывается, это было мясо яка. Уку и Бере ездили за ним в бригаду яководов, работавшую на соседней речке.
Мы еще побеседовали о разном. Спрашивал в основном Бере, а Уку прислушивался, присматривался к разговору. Тойчо вел себя как младший, как мог служил нам и на первый план не лез. Казалось, что Уку присматривается ко мне, пытается понять, хорошо ли, что ему достался такой необычный и к тому же долгий гость. Как видно, реакция Бере — близкого друга — была для Уку важна.
Потянулись однообразные рабочие дни. Выход в восемь, до двенадцати подъем, потом чаевка, пастьба, в четыре начало спуска и в шесть у кошары. Таким был наш ежедневный распорядок.
Овцы ожидали момента, когда их выпустят из загона, в волнении, часто блеяли. Проголодавшись за ночь, они, понятное дело, ждали начала пастьбы. Однако, оказавшись на воле, отнюдь не бежали сами вперед. Наоборот, бестолково жались в кучу, шарахались всей массой то в одну, то в другую сторону. Ежедневно Тойчо начинал с того, что, войдя в глубь отары, выгонял, угрожая таяком, наружу коз, их направлял вперед, а уже сзади тянулась остальная отара. Довольно скоро я узнал, что не все козы способны слушаться человека, бежать куда гонят. Вроде бы нехитрый навык — двигаться от опасности, и тот требовал определенного опыта, а правильнее сказать, разума. Добиться этого от большинства овец и коз не удавалось, они испуганно блеяли, старались прорваться обратно к отаре, забиться в глубь ее. Вожаками служили два козла — серко, очень приметные и размером рогов, и окраской. Чабаны специально вырастили их, учили. Тойчо смеялся, что серко умнее человека: три «языка» знает — понимает и людей, и коз, и овец.
За несколько минут до выхода на пастбище в отаре начинались драки. Меня очень интересовала их причина. Предполагал, что овцы возбуждены, сердятся, что их не выпускают, хотят есть и вымещают злость на собратьях. Позже я придумал другое объяснение.
Утренняя неразбериха в отаре быстро кончалась, когда она вытягивалась длинной колонной, уходившей уже знакомой мне тропой в горы. Тойчо затягивал заунывное: «Э-гей-э-гей-э-гей», подбадривавшее и одновременно успокаивающее овец. Желая поторопить овец, отошедших в сторону, чтобы схватить попутно несколько клочков травы, Тойчо покрикивал более оживленно: «Хоть, хоть, ать, ать!»
В полукилометре от поляны ручей раздваивался. Мы чередовали подъемы по правому и левому отвершку. В некоторые дни пасли и на самой поляне, так что наша отара имела более или менее правильную смену трех участков.
На перепутье отара растекалась двумя потоками, и Тойчо спешил один из них «тормознуть»: карабкался овцам наперерез, звонко кричал: «Та! Та!» Вскоре он менял тактику, начинал свистеть, кричать «Кру-кру-кру!», словно подражая ворону. Делал так, чтобы заставить овец поднять голову, осмотреться, увидеть, в какую сторону направляется большинство овец.
От развилки ручья склоны ущелий становились не так круты, по ним уже можно было ходить. Овцы начинали пастись, разбредались в стороны. Даже и вдвоем с Тойчо мы едва успевали приостанавливать те группы, что «ударились не в ту степь». Было бы мало толку, если бы овцы поднимались наверх в походных колоннах. Нужно было, чтобы они больше кормились и меньше бегали с места на место. Впоследствии, уже обрабатывая материалы по овцам и архарам, я подсчитал, что овцам приходится ежедневно проходить по семь — одиннадцать километров, тогда как суточный переход архаров колеблется в пределах двух — шести километров. Было бы лучше, если бы наши овцы могли оставаться ночевать в горах. Там еще встречались сложенные из камней загоны, в которых когда-то держали чабаны своих овец. Теперь же мы ежедневно угоняли своих овец вниз — ради подкормки, ради собственного комфорта. Бродя по снежным горам, пробыв целый день на пронизывающем ветру, мы так мечтали о нашем маленьком домике, где заботливая Зура уже напекла лепешки, приготовила еды, где можно обсушиться, расслабиться, полежать на ковре, глядя в потолок.
Достигнув наконец плато, вспотев и выдохшись, я с радостью принимался собирать хворост. Хотелось отдохнуть и поесть, и просто посидеть с беседой у костра. Наступали самые счастливые часы дня, когда и работа была нетрудной, и находилось время просто посидеть, посмотреть на необъятный мир кругом, подумать.
Хворост в этих горах был своеобразен — приходилось собирать отмершие ветви колючих кустарников, солянок. Они неважно горели, давали едкий то белый, то синеватый дым, пахнувший лекарствами. И все же костер приносил какую-то малую толику уюта, и лишаться его не хотелось.
Хорошо, когда днем светило солнце, пусть по-зимнему холодное и все же ощутимое. Обратив к нему лица, мы сидели с Тойчо у костра, пока продолжался отдых отары, беседовали о разном. В первые дни я пытался овладеть минимумом киргизских слов. Мой товарищ неплохо говорил по-русски, научился, когда служил в армии. Но мне хотелось хоть немного знать и его язык. Тойчо называл мне слова, объяснял их значение, а я записывал. Учил и короткие выражения.
Когда надоело учиться всерьез, я попросил:
— Ты научи меня, что девушке сказать, когда поеду в Дарауткурган, пойду в клуб.
Сохраняя серьезность, Тойчо диктовал мне:
— Мени сьёсюмбе алгоп качам Москвага.
— Что это значит? — спрашивал я, окончив записывать.
— Меня любишь, бежим в Москву, — очень довольный своей шуткой, переводил Тойчо.
Уку предложил мне съездить к братьям Кийку и Ма-насу Мойдуновым.
Я охотно согласился прогуляться к братьям, немало наслышавшись пересудов об их переезде в горы. Братья Киик и Манас — это было новое поколение чабанов. Оба окончили среднюю школу, но, несмотря на «образованность», пошли после службы в армии в чабаны. К тому же Киик не без хвастовства грозился обогнать самого Уку, давно ходившего в передовиках, привыкшего к этому. Братья приняли осенью отару молодых овец, готовились к первой чабанской весне.
К братьям Мойдуновым я поехал на недавно обученном жеребце, рассчитывал, что дальняя поездка поможет поскорее объездить его. Весь курс обучения его занял у нас четверо суток.
Четырехлетнего жеребца, до сих пор ходившего по поляне вольно, Уку поймал арканом. Боясь, что неук порвет аркан, набросили на шею и веревочную петлю. Потом почти волоком, привязав за хвост лошади, подтянули к глиняному дувалу и уже из-за глиняной стенки, не боясь, что ударит, надели уздечку. Потом жеребец шестнадцать часов простоял на привязи. Сначала рвался и так, и этак, потом успокоился. В это время его не кормили и не поили. Наутро жеребца оседлали, привязали на короткой веревке за хвост другой лошади и два часа таскали по поляне.
Я наблюдал все это и активно помогал чабанам. Однако, когда мне предложили сесть на неука, заколебался. Показалось, что товарищи испытывают мою храбрость.
— Садись, не бойся, — говорили они. — Ты тяжелый, в одежде, наверное, сто килограммов весишь. Он быстрее устанет, быстрее научится.
Жеребца удерживали «мертво», когда я вставил ногу в стремя, одним махом сел в седло. Тотчас ведущий послал вперед своего коня, и еще ничего не сообразивший ученик был вынужден тащиться за ним следом. По совету товарищей я шпорил жеребца, едва он начинал вихляться из стороны в сторону. Когда я устал, мы подъехали к дому, и в седло сел Джалаль, тоже мужчина крупный. Следующим ездил Бере. Всего набралось часа четыре гонки, так что непривычный к нагрузке жеребец уже едва держался на ногах.
Следующим утром мы отправились в гости. Свободных коней, кроме только что обученного, не было, но Уку уверял меня, что на горных тропинках новичок не подведет. Поверив старшему, я все же сидел в седле в напряжении, надеясь, если конь заупрямится, успеть соскочить. Не знаю, успел бы? Езда по заснеженным горным тропам показалась мне почти цирковым занятием. Подъемы, в общем-то, были неопасны, даже если мой жеребец скользил и едва не по-собачьи карабкался по льду вверх. Конечно, он еще не был подкован и проигрывал в сравнении с лошадьми Уку, Бере и Джалаля. Однако особые ощущения я испытывал, когда подъем сменялся спуском. Кони съезжали по обледеневшим камням, по снежникам, словно мальчишки с горки. Поджимали, насколько могли, зад и, собрав все четыре ноги вместе, скользили. Казалось, что сижу высоко-высоко и спрыгнуть некуда, тропа лишь под ногами коня, дальше — круто уходящий вниз склон. Я невольно клонился в другую сторону, и Уку, заметив это, крикнул через плечо:
— Сиди прямо, не мешай коню.
Мой жеребчик вел себя так осторожно, так заботливо выискивал на скользкой тропе неровности, где можно зацепиться, что я, наверное, не смог бы пройти аккуратнее. А уж послушнее его не было, и не поверишь, что всего день назад он впервые узнал седло.
Киик поджидал, пока мы подъедем. Понимающе кивнул, когда ему крикнули, что я на мало объезженном коне, и ловко перехватил у меня поводья, успокоил жеребчика, придержал, когда я спрыгнул.
С интересом я осматривался на незнакомой зимовке. Все здесь было беднее: кошара — невелика, крыта соломой, загон для овец из камней и корявых жердей, жилище — полуземлянка. Войдя внутрь и немного привыкнув к полумраку, я увидел довольно чистое, хотя и глиняное помещение, на земляном полу расстелены овечьи шкуры, у стены валик сложенных ковров, кошм и ватных, в ярких шелковых чехлах, одеял.
В землянке две женщины. Одна из них, судя по тому как прикрывала лицо, стягивая у рта зеленый платок, была молодая хозяйка. Киик недавно женился. Чувствуя, как она стесняется, мы не надоедали ей вниманием, за чаем говорили о своем. Киик тут же расстелил клеенку, принял от жены чайники, пиалы, сладости, все это расставил, угощал. Я уже привык, что за едой хозяйничает младший из мужчин, но на этот раз Манас сидел среди нас, а всю заботу взял на себя старший брат. Что ж, в гости приехали хозяева соседних зимовок да еще и московский гость, так что случай был особенный.
Между тем в углу, в казане, укрепленном над костром, варился барашек. Меня заинтересовало устройство очага. Угол землянки был сделан полусводом, переходившим в глиняную трубу, так что дым над костром не растекался по комнате, улетал в трубу. Уку пояснил мне, что раньше так было во всех домах.
Я заметил, как независимо и чуть насмешливо держал себя Киик. Он незлобливо, но уверенно отвечал на шутки гостей.
Рядом со мной сидели братья Саидовы и братья Мойдуновы. Мойдуновы, несмотря на молодость, вели себя смелее, свободнее. И глаза у них смотрели на мир спокойнее, добродушнее. Они родились и выросли в послевоенное время, достаток и уверенность в завтрашнем дне были для них обычными. Но мне как-то ближе были Саидовы — дети военного времени.
Даже различия во внешности можно было бы посчитать признаками времени: Саидовы невысокие, сухощавые, с костистыми лицами, ранние морщины пересекли щеки, в серых глазах светилась решимость. Мойдуновы — лоснящиеся; склонны рано полнеть, большие карие глаза смотрели на мир безмятежно.
Уку как-то рассказывал мне, как началась его трудовая жизнь. Шла война, отец погиб на фронте, а мать вынуждена была пасти отару. Она уходила в горы, оставив Уку заботиться о братишках. Когда совсем было невмоготу терпеть голод, Уку давал им попить соленой води. Это немного помогало. В 1944 году четырнадцатилетним мальчишкой Уку начал пасти, сменил мать. В пятьдесят втором женился, потом помог жениться братьям.
Директор совхоза в шутку рекомендовал мне Уку как «миллионера». Он и впрямь был богат по меркам здешнего неласкового края. Имел трех лошадей, свой дом, мотоцикл.
Правда, сам он почти безвылазно жил на зимовке и, как мне кажется, ни о чем не думал, кроме благополучия совхозной отары. Она была его кормилица, надежда и гордость.
Наверное, Уку не без ревности воспринимал хвастовство Кийка. Слишком быстро тот хотел и прославиться, и разбогатеть. А преимущества у него были лишь в молодости и грамотности. И все же чабаны желали соседу удачи. Появление таких соперников как-то оживило их быт. То в передовиках был один Уку, с ним и равняться никто не собирался, и вдруг появился Киик. Всем было интересно, как сложится у него работа.
Не знаю, с вечера ли или еще раньше Уку и Киик составили против меня заговор. Я не догадывался о его существовании, пока не проболтался Манас.
Как обычно, неторопливо, обдумывая каждое слово, Уку предложил мне пожить у Мойдуновых. Он даже не поскупился на доводы: интересно сравнить, как живут две отары, я смогу помочь Мойдуновым советом («ведь ты изучал овец в разных местах»). Киик стоял тут же и напористо, с шутками и обещаниями поддерживал.
Меня разбудили шаги: два громких, с хрустом, по каменистому полу, два приглушенных — по кошме. Что-то задумчивое было в этих шагах. Я открыл глаза. Киик ходил по землянке взад-вперед, ожидая, пока у Миры будет готов завтрак. Пора было и мне вылезать из спального мешка.
За чаем я спросил о причине озабоченности Кийка.
— Еще два барана умерли, — отвечал он.
К тому времени в отаре погиб уже десяток овец. Они лежали поодаль от землянки, привлекая воронов. Чабаны ждали приезда зоотехника, без подписи которого не приняли бы в совхозе акт на списание.
Несмотря на молодой азарт и гонор, дела у Мойдуновых в первый год работы складывались неважно. Зимовка была трудной, отара молода, что всегда затрудняет работу чабанов. Молодые овцы труднее сохраняют упитанность, плохо слушаются. Да и предстоящее ягнение вызывало у чабанов тревогу. Впрочем, у всех животных первые беременность и роды нередко проходят с осложнениями.
Днем, когда кормили отару в горах, мы с Манасом нашли еще одну погибшую овцу. Она неудачно упала так, что ноги попали на камень. Она так и умерла, лежа на боку, с приподнятыми на камень ногами, не имея сил подняться. Тащить ее вниз не было смысла. Я обещал Манасу замолвить перед зоотехником словечко и предложил вскрыть погибшее животное. Хотелось узнать его состояние, посчитать число эмбрионов. Манас не возражал, как и другие чабаны, он считал меня по специальности ветврачом. Каково же было мое изумление, когда у овцы оказались три эмбриона! Навряд ли истощенная мать смогла бы их доносить и тем более выкормить.
Во время чаевки мы заговорили о многоплодии овец. Насколько я знал биологию курдючных овец — это был редкий случай. Выведенные для жизни в горах и пустынях, курдючные овцы во всем были приспособлены к выживанию в самых суровых условиях, в том числе и рождением одного ягненка. Выкормить двух, тем более трех, было бы для матери непростой задачей. Это доказывали и специальные работы по сравнению плодовитости тонкорунных и курдючных овец.
Манас, поколебавшись, спросил, не говорил ли я со старшим братом о гибели овец. Ведь братья не зря пригласили меня пожить у них, рассчитывали на совет. Удивительную историю поведал мне Манас.
В ноябре один из зоотехников совхоза познакомил Кийка с чужим человеком. Тот привез в термосе препарат, который делал овец многоплодными. Что чужой человек не обманет, зоотехник подтверждал, и молодые ребята решили рискнуть.
Мне уже приходилось слышать о доморощенных лабораториях по изготовлению сыворотки крови жеребых кобыл. Такой препарат фабричного изготовления в семидесятые годы широко применялся в каракулеводстве, однако со все возрастающей осторожностью. Его рекомендовали вводить лишь взрослым, хорошо упитанным овцам, да и то в трудный год это мероприятие было связано с немалым риском. Вместо двух-трех ягнят можно было не получить ни одного да и мать потерять.
Мойдуновы рискнули испытать только несколько десятков овец. Ребята грамотные, они высчитывали, что получат штук двадцать — тридцать лишних ягнят, и этого вполне достаточно, чтобы утереть нос таким передовикам, как Уку. Получилось же совсем не так, как думалось. И пасти молодых овец было трудно, и подкормку для отары старые чабаны получали в совхозе легче, чем новички.
Что было посоветовать моим хозяевам? Лучше пасти, ослабевших овец оставлять дома, добиваться в дирекции больше дробленого зерна и сена.
На другой день мы пришли в отару на полчаса раньше обычного. Овцы в большинстве лежали и были слегка напуганы неурочной суетой. Манас по указаниям Кийка ловил овец за заднюю ногу. Я быстро подбегал, красил им лоб: тем, что любили ходить впереди, — красной краской, пасшимся в гуще отары — зеленой, отстающим — желтой. Вышли в горы мы вовремя.
Теперь я вел сложную запись. Рисовал отару, отмечал, где какого цвета овцы, что делают, много ли вокруг соседей.
Однако мои рисунки отражали то, что я и без того видел на пастбище. Вот «красные» овцы вышли вперед, принялись кормиться. Вслед за ними потянулись «зеленые». Вскоре и «желтые» заметили, что отара уходит, стали поднимать головы, блеять: видно, жалко было бросить место, где прикормились, и остаться неудобно. «Как же, все куда-то отправились, а мы отстаем, вдруг там слаще трава, а может быть, дают подкормку».
Манас терпимо относился к моим экспериментам, но начинал беспокоиться, когда вся отара, выстроившись походными колоннами, уходила вперед. Впрочем, обычно я сам останавливал «красных», и они, развернувшись и не принимаясь за пастьбу, проходили сквозь всю отару туда, где недавно находились лишь «желтолобые». На несколько минут они смешивались, паслись рядом. Потом прибывали ряды «зеленых», снова делалось тесно, и все начиналось сызнова.
Мне хотелось понять, что не дает отаре спокойно пастись, какая забота гоняет «красных» овец взад-вперед. Я верил, что так ведут себя они неспроста, чем-то не нравится им жизнь, на которую их обрекало пребывание в отаре.
Если ходишь за одной овцой, быстро замечаешь ее подруг, соседей, случайно или по сходству привычек и вкусов пасущихся рядом. В спокойной обстановке трудно определить, замечают ли животные присутствие друг друга. Однако мое блуждание поблизости заставляло овец поднять голову, поинтересоваться, почему мне не сидится на месте. И этот интерес тотчас передавался другим. Я даже составил табличку измерений дистанций, с которых меня пугались одиночные животные и те, что паслись группой.
Взаимосвязаны были переходы соседних овец. Удавалось подметить компании по три — пять овечек. В каждой была ведущая, не любившая, чтобы кто-нибудь маячил впереди нее, и тотчас же бросавшая пастьбу, уходившая вперед, когда ее пытались обогнать. Ее подругам, наоборот, было не по себе, если они не видели впереди себя лидера, они торопились нагнать его; между прочим, предпочитали догонять след в след, что хорошо было видно на снегу.
Вся эта компания любила простор, и когда подваливали «зеленые», составлявшие две трети отары, окружали «красную» компанию со всех сторон, те уж никак не хотели с этим мириться. Красные овцы становились нашим наказанием, если приходилось пасти в тесном месте, где отаре негде было разойтись.
Мне казалось, что главная беда в желании овец подражать. «На все вкусы не напасешься, — рассуждал я. — Овцы-бродяги, которые сохранили от предков любовь к свободному пастбищу, к тому, чтобы вокруг не мельтешили собратья, постепенно исчезнут. С каждым годом человек будет сохранять тех, кто послушнее, тупее, равнодушнее к тесноте. Зачем чабанам вольнолюбивая овечка, если она не дает покоя ни себе, ни соседям, водит отару по горам, доставляя столько хлопот пастуху?»
Страсть овец к подражанию невольно удивляла. Большинство их мало доверяло своему опыту и предпочитало полагаться на мнение большинства. Ради опыта я пробовал рассыпать подкормку сзади отары. Казалось, для «желтых», обычно составлявших арьергард, выпала редкая удача. Рядом лежит корм, и никто еще об этом не знает, даже бодливые и пронырливые козы, которые уж никогда бы не позволили овцам спокойно полакомиться. Но нет, «желтолобые» овцы беспокойно принюхиваются, но подойти не решаются, даже отодвигаются подальше от соблазна. Иное дело, когда я рассыпал подкормку перед «красными» овцами. Здесь уж никто не зевал. Вслед за ведущими и «желтолобые» старались ухватить клочок.
Я старался прервать движение отары в самом начале, когда еще только зарождался поток овец, только начиналась гонка преследования и красные еще только ускоряли темп переходов, но еще не бросили пастьбы, не тронулись вперед. Я бдительно сторожил этот момент, спешил повернуть авангард вспять. Проходило двадцать или более минут, пока передовые овцы, пройдя сквозь отару, выходили на свободное место, пока вновь разворачивалась за ними вся отара. Мало того, мне иногда удавалось толкнуть овец с фланга, закрутить отару так, что она теряла всякий порядок. Случалось, на целый час у нас воцарялся беспорядок. Овцы чувствовали его, чаще блеяли, скликая подружек, паслись урывками, были более пугливы, однако движения в каком-нибудь одном направлении не возникало.
Рекомендовать такой прием как способ борьбы с уходами отары я все же не мог. Ведь нарушалось самое главное — пастьба овец. Им лучше жилось, когда отара сохраняла свой естественный строй.
Мне уже приходилось убеждаться, как чутко следят овцы за тем, чтобы не остаться в одиночестве, как не забывают ни на миг, где отара, где соседи. Пытаясь получше узнать, как они ориентируются, я с помощью пастухов завязывал овцам глаза. Мы надели овцам платочки, словно богомольным старушкам, и этим сильно озадачили их товарок. Тотчас к подопытным животным стали собираться овцы, не только заинтересованные, но и испуганные и нарядом, и поведением «ослепленных овец». А те, помотав головой, сначала бестолково шли, куда несли ноги, но, отойдя от отары, тотчас чувствовали это — может быть, по шуму или по запаху, — возвращались обратно. Через полчаса они привыкали к такой «слепой» жизни, держались все время с подветренной стороны от отары, явно ориентируясь по запаху.
Чабаны рассказывали мне, что весной, когда сияние солнца тысячекратно умножается снегами, случается, овцы слепнут. Однако они подолгу выживают в отаре, находя ее по запаху, отыскивая обонянием и на ощупь корм.
Манас и Киик, конечно, заметили мои старания помешать возникновению в отаре токов. Они с большим интересом наблюдали, удаются ли мои попытки. Однако их тревожило, что овцы стали меньше есть, больше ходят с места на место, беспокоятся. В конечном итоге мы приводили отару в горы не для того, чтобы управлять ею или проводить эксперименты. Овцы должны были пастись.
Однажды во время отдыха мы, как обычно, развели костер, занялись чаевкой, но я то и дело прерывал отдых, все старался помешать передовым овцам уйти в сторону, увести за собой отару.
— Пускай идут, — вступился за отару Манас. — Здесь широкое место, пусть живут, как хотят.
Я не огорчился. Напротив, мне годился любой поворот событий. Возможность распустить отару давала еще одну возможность для наблюдений и выводов. Когда в очередной раз среди овец началось движение, обгоняя друг друга, они уходили все дальше к зубчатой пиле скал, я не вмешивался, хотя и был настороже, держал наготове записную книжку. Все большее число овец выстраивалось вереницами.
Отара шла вперед и в то же время расходилась в стороны. Вскоре она приобрела форму дуги. Выйдя вперед или на край отары, овцы начинали было пастись, но масса других овец, еще оставшихся сзади, теснила их. Группки овец — по две-три вместе — быстро расползались по пологим склонам, пока каждой из них не досталось свободное местечко. Отара разошлась вширь на километр. Вслед за передней дугой метрах в пятидесяти позади возникла вторая, а потом еще и третья. Я наблюдал то же явление, что и в Бадхызе у архаров.
Движение отары прекратилось само собой. Она разошлась очень широко, группы овец спустились в ложбины, затерялись среди скал.
— Знаешь эти места, не потеряем овец? — спросил я Манаса.
— Немного знаю, — отвечал он. — Раньше чабаны подолгу здесь жили, не ходили вниз.
— Что ж теперь?
— Теперь там дом, там подкормка для овец.
— Хорошо это?
— Для меня хорошо, для овец плохо. Впрочем, для овец тоже неплохо, — поправился он. — Чем самим корм собирать, лучше дома есть. Раньше больше скота в этих местах пасли. Теперь другое время. Никто высоко в горах жить не хочет, дома привыкли. И овцы привыкли, в кошару хотят.
Сравнение «раньше» и «теперь» частенько становилось темой наших разговоров. Чабаны уважали «раньше» за то, что люди трудились тогда больше, а ведь это были их отцы и деды. Многое из того, что они делали, казалось теперь непосильным, немыслимым. Вдоль склонов, перебираясь через довольно высокие хребты, тянулись арыки орошения. Раньше в горах сеяли ячмень и, говорят, получали неплохие урожаи. Эти арыки копали многие годы, конечно, вручную. Казалось, такая работа посильна только богатырям. И чабаны пасли тогда выше, больше жили в горах лучше знали их, бережливей использовали. И причиной тому была тоже нужда, нехватка пастбищ. Ведь лучшие земли принадлежали кулаку. Но теперь, когда ни голод, ни сила не властвовали над людьми, они с сожалением вспоминали о подвигах дедов и хотели сравниться с ними трудом, умением.
Я давно собирался в Дараут-Курган по своим делам. Теперь предстояло еще выхлопотать для отары Кийка и Манаса больше подкормки.
Вместо моего молодого конька Киик дал своего.
— Даже если спишь, он сам довезет. Прямо к моему отцу привезет, скоро чай, барашка кушаешь, большой живот имеешь, — напутствовал меня чабан. Огорчения не портили его веселого, насмешливого нрава.
Действительно, поездка прошла удачно. Конь хорошо знал дорогу, сам выбирал, где пуститься вскачь, где семенить шагом. И дом Мойдуновых в поселке он нашел очень уверенно. Нигде меня не побеспокоил, только приветствовал ржанием других коней, стоявших оседланными почти у каждого дома. Такой здесь был обычай — ста шагов не ходить пешком.
На постой я устроился в гостинице. Приведя себя в порядок, отправился на почту и, подбодренный письмами из родной Москвы, дальше — в контору совхоза, столовую, кино.
Под вечер в гостинице стало шумно, прибыли гости: из Совета Министров Киргизии, обкома и райкома. Все вспоминали трудную, но интересную дорогу. Сначала грозные перевалы, а потом величественная панорама долины, слева от которой возвышался Памир, а справа Алайский хребет, не могли не запомниться, не породить массу мыслей.
Рано или поздно заговорили о судьбах местного овцеводства. Ему повезло, замечательный ученый, направлявший овцеводство Киргизии, Михаил Николаевич Лущихин — понимал, какими должны быть овцы, способные освоить эти края [10]. Он вывел породу киргизских тонкорунных овец, скрещивая привозных овец с местными и отбирая на племя ягнят высоконогих, легких, прыгучих, не боящихся мороза и ветра, сытых на скудных пастбищах. Но меня подкупало, что Михаил Николаевич ценил и местную киргизскую породу овец, помог ее сохранить и улучшить. Он понимал, что в условиях Алая нужны овцы особые, чемпионы по приспособленности, те, что выжили после сотен лет жесткого отбора. Среди алайских овец особо ценятся белые овцы, их шерсть замечательна для тканья ковров. Ильяс Ботбаев, ученик Лущихина, посвятил алайским овцам свою работу и жизнь.
Среди разговоров о том, о сем я не забыл попросить подкормку для овец нашей отары. Рассказ о молодых братьях-чабанах, об их мечте стать лучшими порадовал всех тем, что растет молодая смена пастухов.
| <<< Назад Архары Бадхыза |
Вперед >>> Опасное пастбище |