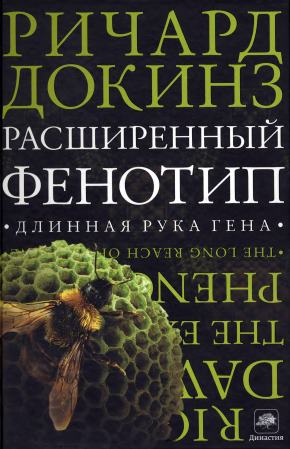Книга: Расширенный Фенотип: длинная рука гена
Призрак ламаркизма
| <<< Назад Эгоистичная ДНК |
Вперед >>> Несостоятельность преформизма |
Призрак ламаркизма
Этот призрак леденит мне душу, ведь если быть до конца откровенным, то мало что могло бы разрушить мое мировоззрение сильнее, чем доказанная необходимость вернуться к теории эволюции, традиционно приписываемой Ламарку. Это один из тех немногих случаев, когда я готов скорее съесть свою шляпу. Тем более необходимо внимательно и непредвзято выслушать некоторые заявления, которые были сделаны Стилом (Steele, 1979) и Горчински со Стилом (Gorczynski & Steele, 1980, 1981). Еще до того, как книга Стила (Steele, 1979) появилась в Британии, лондонская The Sunday Times (от 13 июля 1980 г.) посвятила целую полосу его идеям и «ошеломляющему эксперименту, способному бросить вызов дарвинизму и воскресить Ламарка». Подобную же рекламу дали этим результатам и на Би-би-си: по меньшей мере, в двух теле- и нескольких радиопередачах. (Как мы уже видели, «научные» журналисты денно и нощно бдят, чтобы не пропустить ничего, что напоминает опровержение дарвинизма.) Не кто-нибудь, а такой крупнокалиберный ученый, как сэр Питер Медоуэр, вынудил нас относиться к работе Стила серьезно, подав нам в том пример. Его опубликованное высказывание с достаточной осторожностью указывало на необходимость повторения работы, а заканчивалось такими словами: «Не представляю себе, какие у этого могут быть последствия, но надеюсь, что Стил прав» (The Sunday Times).
Естественно, любой ученый надеется, что истина, какова бы она ни была, выйдет наружу. Но ученый имеет право в глубине души надеяться и на то, какой именно окажется эта истина, — переворот в уме может быть болезненным, и признаюсь, мои собственные надежды изначально не совпадали с таковыми сэра Питера. У меня были сомнения и относительно его надежд, насколько они совпадают с теми, что ему приписываются, пока я не припомнил одно его замечание, всегда казавшееся мне слегка загадочным (см. с.22): «Главное слабое место современной эволюционной теории — отсутствие как следует разработанных представлений об изменчивости, то есть о кандидатах для эволюции, о форме, в которой генетические различия предъявляются естественному отбору. Без этого у нас не может быть удовлетворительного понимания эволюционного прогресса — необъяснимой тенденции организмов решать проблему выживания все более сложными способами» (Medawar, 1967). Медоуэр впоследствии был одним из тех, кто настойчиво, но безуспешно пытался воспроизвести результаты Стила (Brent et al, 1981).
Предвосхищая свои выводы, скажу, что теперь я наблюдаю за тем, как продвигаются дела у защитников теории Стила, со спокойствием, а то и с некоторым сочувствием (Brent et al., 1981; McLaren et al., 1981), ведь теперь мне ясно, что теория эта в самом глубоком и полном смысле слова дарвинистская и даже более: это одна из тех разновидностей дарвинизма, которые особенно созвучны основной идее данной книги, поскольку, как и теория о скачущих генах, она рассматривает отбор на ином уровне, нежели организменный. Заявление о вызове, брошенном дарвинизму, само по себе извинительное, оказалось не более чем журналистским злопыхательством, если только понимать дарвинизм так, как, по моему мнению, его следует понимать. Что же касается самой теории Стила, то даже если факты ее не подтвердят, она сослужит ценную службу, обострив наше восприятие дарвинизма. Не будучи достаточно компетентен, чтобы судить о технических деталях экспериментов, проводившихся как Стилом, так и его противниками (хороший разбор сделан Хауардом — Howard, 1981), сосредоточусь на том, какое влияние окажет его теория, если в конце концов она подтвердится.
Стил делает тройной сплав из клонально-селекционной теории Бернета (Burnet, 1969), теории Темина (Temin, 1974) о провирусах и собственных нападок на неприкосновенность вейсмановского зародышевого пути. У Бернета он почерпнул идею о соматических мутациях, которые приводят к генетической разнородности клеток тела, после чего внутриорганизменный естественный отбор берет на себя заботу о том, чтобы заселить организм успешными разновидностями клеток за счет неуспешных. Сам Бернет применяет эту идею исключительно к особому типу клеток иммунной системы, а под «успехом» понимает успешное обезвреживание чужеродных антигенов[79], но Стилу хотелось бы распространить ее и на другие клетки. У Темина он заимствовал мысль об РНК-содержащих вирусах, которые служат межклеточными переносчиками, транскрибируя гены в одной клетке и перенося эту генетическую информацию в другую клетку, где снова переводят ее в ДНК, используя обратную транскриптазу.
Стил берет за основу теорию Темина, но с одним существенным дополнением: он особенно акцентирует внимание на клетках половой линии как на реципиентах обратно транскрибируемой генетической информации. В обсуждении он по большей части мудро удерживается в рамках иммунной системы, однако считает свою теорию более универсальной. В его работе приводятся данные четырех исследований «идиотипии» у кроликов. После инъекции чужеродного материала разные кролики образуют различные антитела[80] для борьбы с ним. Даже если генетически идентичным особям из одного клона ввести один и тот же антиген, каждый организм ответит на это своим собственным уникальным «идиотипом». Итак, если кролики действительно генетически идентичны, значит, разница между их идиотипами возникает случайно или вследствие влияний среды и, согласно общепринятым представлениям, ненаследуема. В одном из четырех обсуждавшихся исследований был получен неожиданный результат. Идиотип кролика оказывался унаследован его крольчатами, хотя и не обнаруживался у его «товарищей по клону». Стил подчеркивает тот факт, что кроликов-родителей в этом исследовании подвергали воздействию антигена до спаривания. В трех других исследованиях антиген вводился после спаривания, и родительские идиотипы крольчатам не передавались. Если бы идиотипы наследовались в составе нетронутой половой плазмы, то не имело бы никакого значения, до или после инъекции спаривались кролики.
Объяснение результатов Стил начинает с теории Бернета. Соматические мутации приводят к генетическому разнообразию в популяции клеток иммунной системы. Тем генетическим разновидностям клеток, которые справляются с уничтожением антигена, благоприятствует клональный отбор, и они становятся очень многочисленными. Задача по подавлению любого антигена имеет несколько решений, и конечные результаты такого отбора будут у всех кроликов различными. Теперь выходят на сцену провирусы Темина. Они транскрибируют в клетках иммунной системы случайный набор генов. Поскольку клеток с генами удачных антител численно больше, то статистически более вероятно, что транскрибированными окажутся именно эти успешные гены.
Провирусы перетаскивают их в половые клетки, встраивают в хромосомы зародышевого пути и оставляют там, — возможно, удаляя при этом исходных обитателей локуса. Таким образом, в следующем поколении кролики смогут напрямую черпать выгоду из иммунологического опыта своих родителей без необходимости самим сталкиваться с соответствующими антигенами и без невыносимо медленного и затратного посредничества избирательной гибели организмов.
Но по-настоящему впечатляющие доказательства появились уже после того, как теория Стила была полностью продумана, сформулирована и опубликована, — замечательный и довольно-таки неожиданный случай, когда научный процесс идет именно так, как философы это себе представляют. Горчински и Стил изучали, наследуется ли по отцовской линии иммунологическая толерантность у мышей (Gorczynski & Steele, 1980). Используя классический метод Медоуэра в его экстремальной форме, они вводили новорожденным мышатам высокие концентрации клеток, полученных от мышей другой линии, благодаря чему впоследствии, став взрослыми, эти мышата проявляли толерантность к трансплантатам, взятым у мышей той же донорской линии. Затем от таких иммунотолерантных самцов получали потомство, которое действию чужеродных антигенов не подвергали, и оказалось, что отцовская иммунотолерантность передавалась примерно половине мышат. Более того, по всей видимости, воздействие распространялось и на внуков.
Мы оказались поставлены перед необходимостью признать факт наследования приобретенных признаков. Краткое обсуждение Горчински и Стилом результатов своей работы, так же как и результатов последующей расширенной ее версии (Gorczynski & Steele, 1981), напоминает пересказанную выше интерпретацию экспериментов на кроликах. Главные различия между этими двумя случаями в том, что, во-первых, кролики, в отличие от мышей, могли унаследовать что-то из материнской цитоплазмы, а во-вторых, кролики якобы наследовали иммунитет, а мыши — иммунотолерантность. Эти различия, вероятно, важны (Ridley, 1980b; Brent et al., 1981), но я не буду придавать им большого значения, поскольку не собираюсь оценивать результаты экспериментов как таковые. Достоверны они или нет, я хочу основное внимание уделить вопросу, действительно ли Стил бросает «ламаркистский вызов дарвинизму».
Вначале разделаемся с некоторыми историческими вопросами. Наследование приобретенных признаков — это не то, что сам Ламарк считал в своей теории наиболее важным, и неправда (contra Steele, 1979, p. 6), будто начало этой идее положил он, — он лишь перенял традиционные для своего времени взгляды и дополнил их новыми понятиями, такими как «стремление к совершенству» и «упражнение и неупражнение органов». Вирусы Стила напоминают дарвиновские пангенетические «геммулы»[81] больше, чем что-либо из того, что постулировал Ламарк. Но я затронул исторический аспект, только чтобы больше его не касаться. Дарвинизмом мы называем теорию о том, что на ненаправленные изменения в изолированной зародышевой линии действует отбор в соответствии с их фенотипическими проявлениями. А ламаркизмом мы называем теорию о том, что зародышевая линия не обособлена и что ее могут непосредственно формировать продиктованные окружающей средой усовершенствования. Является ли теория Стила ламаркистской и антидарвиновской в этом смысле?
Наследование идиотипов, приобретенных родителями, несомненно, приносило бы кроликам пользу. Они начинали бы свою жизнь, обладая стартовым преимуществом в борьбе с инфекциями, которые встречались их родителям и, вероятно, им самим тоже встретятся. Значит, это направленное, приспособительное изменение. Но действительно ли оно является отпечатком окружающей среды? Если бы образование антител происходило путем своеобразного «научения», то ответ был бы положительный. В этом случае окружающая среда в виде антигенных белковых молекул должна была бы непосредственно формировать антитела в родительских особях. И если бы оказалось, что потомство этих особей наследует предрасположенность к образованию точно таких же антител, то мы получили бы чистой воды ламаркизм. Но тогда структура белковых молекул антител должна была бы каким-то образом переводиться в нуклеотидный код. Стил (Steele, р.36) твердо держится того, что никаких указаний на возможность такой обратной трансляции не имеется — только обратная транскрипция РНК в ДНК. Он никоим образом не пытается опровергнуть сформулированную Криком центральную догму, хотя другим, разумеется, никто этого делать не запрещает (я разовью свою мысль позже, в более широком контексте).
Принципиальнейшим положением гипотезы Стила является то, что приспособительные изменения происходят благодаря отбору среди случайно возникших мутаций. Эта теория настолько дарвиновская, насколько это возможно, если только за единицу отбора принимать не организм, а репликатор. И тут не просто что-то смутно напоминающее дарвинизм, как, скажем, «теория мемов» или теория Прингла о том, что обучение происходит в результате отбора между различными частотами колебаний в популяции взаимодействующих друг с другом нейронных осцилляторов (Pringle, 1951). Репликаторы Стила — это молекулы ДНК в клеточных ядрах. Это не просто репликаторы, аналогичные дарвинистским, это они самые и есть. Та схема естественного отбора, которую я набросал в главе 5, без каких-либо изменений прекрасно укладывается в теорию Стила. В стиловском варианте ламаркизма особенности среды кажутся накладывающими свой отпечаток на зародышевую линию, только если рассуждать на уровне индивидуальных организмов. Стил действительно заявляет, что признаки, приобретенные организмом, наследуются. Но если мы переместим свой взгляд на уровень генетических репликаторов, то станет ясно, что эти адаптации возникают с помощью селекции, а не «инструкции» (см. ниже). Просто в данном случае селекция происходит в рамках организма. Стил не возражает: «… это очень во многом основывается на важнейших дарвиновских принципах естественного отбора» (Steele, 1979, р.43).
Несмотря на явное признание Стилом идей Артура Кестлера, в его теории нечего ловить тем, как правило, небиологам, чья антипатия к дарвинизму по сути вызвана пугалом «слепого случая». Или, раз уж зашла речь, его двойником — пугалом мрачного жнеца, с ухмылкой называющего себя Первопричиной наших благородных индивидуальностей, который преобразует «все вокруг, бездумно моря голодом и убивая каждого, кто недостаточно удачлив, чтобы выжить во всеобщей борьбе за кормушку со жратвой» (Shaw, 1921). Если Стил и окажется прав, тень Бернарда Шоу не будет победоносно хихикать и потирать руки! Энергичная натура Шоу страстно восставала против дарвиновского «стечения обстоятельств»: «… На первый взгляд все просто, потому что поначалу ты не осознаешь всего, что за этим стоит. Но как только до тебя доходит истинный смысл, твое сердце уходит в пятки. Здесь кроется омерзительный фатализм, гадкое и непростительное отрицание красоты и интеллекта, силы и предназначения, чести и устремлений…» Если нам уж так необходимо ставить эмоции впереди истины, то я всегда полагал, что в естественном отборе есть своя пусть суровая и беспощадная, но вдохновляющая поэзия — «грандиозность такого взгляда на жизнь» (Darwin, 1959). Все, что я хочу сказать сейчас, — это то, что если «слепой случай» вызывает у вас брезгливость, не ждите спасения от теории Стила. Но на что действительно имеет смысл надеяться — так это на то, что правильное понимание теории Стила поможет увидеть, что «слепой случай» — не самый подходящий образ для дарвинизма, как это излагают Шоу, Кэннон (Cannon, 1959), Кестлер (Koestler, 1967) и другие.
Итак, теория Стила представляет собой разновидность дарвинизма. Клетки, на которые в соответствии с представлениями Бернета воздействует отбор, — это транспортные средства для активных репликаторов, а именно для генов, возникших вследствие соматических мутаций. Эти репликаторы активны, но являются ли они репликаторами зародышевого пути? Суть моей мысли в том, что если дополнение, сделанное Стилом к теории Бернета, верно, то ответом будет категорическое «да». Они не относятся к зародышевому пути в традиционном понимании, но из обсуждаемой нами теории логически следует, что просто-напросто наши представления о том, что такое на самом деле зародышевый путь, были ошибочными. Любой ген «соматической» клетки, который может подвергнуться провирусному переносу в клетку половой линии, по определению является репликатором зародышевого пути. Книгу Стила можно было бы переименовать в «Расширенный зародышевый путь»! Она не только не причиняет неовейсманистам неприятностей, но и, как оказалось, очень близка нам по духу.
Тогда, возможно, нет такой уж большой иронии в том, что убеждения, сходные, причем не только внешне, но и по сути, со взглядами Стила, высказывал среди прочих и (о чем Стил явно не подозревает) Август Вейсман собственной персоной в 1894 г. Следующие рассуждения позаимствованы у Ридли (Ridley, 1982; прецедент был также замечен Мэйнардом Смитом — Maynard Smith, 1980). Вейсман развил одну из концепций Ру, которой дал название «интраселекция». Цитирую по Ридли: «Ру утверждает, что между частями организма идет борьба за пищу, подобная борьбе за существование между организмами… Теория Ру состоит в том, что этой борьбы между частями в сочетании с наследованием приобретенных признаков достаточно для объяснения адаптаций». Замените «части» на «клоны», и вы получите теорию Стила. Но, как и следовало ожидать, Вейсман отмежевался от Ру в том, что касалось бездоказательного и буквального допущения о наследовании приобретенных признаков. Вместо этого он в своей теории «зачаткового отбора» призвал на помощь псевдоламар-кистский принцип, позже известный как «эффект Болдуина» (Вейсман был не единственным, кто пришел к этой мысли раньше, чем Болдуин). Ниже мы еще вернемся к тому, как Вейсман использовал теорию интраселекции, поскольку вопрос этот тесно переплетается с тем, что беспокоит самого Стила.
Стил не отваживается выходить далеко за пределы своей иммунологической области, но ему хотелось бы, чтобы какая-то модификация его теории была применена к чему-нибудь еще, а в особенности к нервной системе и к тому механизму приспособительного усовершенствования, который мы называем обучением. «Если [эта гипотеза] будет в какой-то мере применима к процессу эволюции приспособлений вообще, то она также должна давать объяснение адаптивным возможностям нейронных сетей головного мозга и центральной нервной системы» (Steele, 1979, р.49, курсив, как ни странно, авторский). Он, судя по всему, затрудняется с вопросом, что именно в мозгах могло бы подвергаться отбору, и потому я на всякий случай безвозмездно дарю ему свою теорию об «избирательной гибели нейронов как возможном механизме памяти» (Dawkins, 1971) — вдруг пригодится.
Но возможно ли в действительности применение клональноселективной теории вне иммунологической области? Ограничена ли эта концепция специфическими условиями иммунной системы, или ее можно увязать со старым ламарковским принципом упражнения — неупражнения? Может ли клональный отбор очутиться в крепких руках кузнеца? Могут ли наследоваться приспособительные изменения, вызванные физическими упражнениями? Позволю себе сильно усомниться: в руках кузнеца очень неподходящие условия для естественного отбора, который благоприятствовал бы, скажем, клеткам, процветающим в аэробной среде, больше, чем предпочитающим анаэробную, с последующей обратной транскрипцией успешных генов и встраиванием их точно в тот же самый хромосомный локус клеток зародышевой линии. Но даже если бы можно было представить себе что-нибудь подобное где-то кроме иммунной системы, существует и более серьезное теоретическое затруднение.
Проблема в следующем. Качества, содействующие успеху в клональном отборе, непременно должны быть такими, которые давали бы клеткам преимущество в конкуренции с другими клетками того же организма. Эти качества совсем не обязательно будут как-то связаны с благом для всего организма, а могут и активно ему противодействовать, если вспомнить наш разговор об отщепенцах. Признаюсь, мне в самой теории Бернета кажется слегка неудовлетворительным тот аспект, что занимающий в ней центральное место процесс отбора был придуман ad hoc. Предполагается, что клетки, которые производят антитела, обезвреживающие чужеродные антигены, будут размножаться за счет других клеток. Но это размножение не будет следствием каких-то присущих клеткам преимуществ: напротив, на первый взгляд, заведомо должны обладать преимуществом те клетки, которые не рискуют жизнью, бросаясь на уничтожение антигена, а эгоистично предоставляют это своим коллегам. Теория вынуждена в приказном порядке, «сверху» устанавливать произвольное и нерациональное правило отбора, согласно которому более многочисленными становятся клетки, приносящие пользу организму в целом. Это как селекционер, который сознательно выводит породу собак, склонных к альтруистическому самопожертвованию перед лицом опасности. Возможно, он сможет добиться такой цели, но естественный отбор не сможет. Подлинный клональный отбор благоприятствовал бы эгоистичным клеткам, поведение которых противоречит важнейшим интересам организма в целом.
Выражаясь языком главы 6, я хочу сказать, что, в соответствии с теорией Бернета, отбор транспортных средств на клеточном уровне, скорее всего, вступит в конфликт с отбором транспортных средств на уровне организмов. Меня это, разумеется, мало беспокоит, поскольку я-то не выдвигаю никаких требований считать организм транспортным средством особой важности. Я просто вношу еще один пункт в «список известных мне отщепенцев» — еще один, наряду со скачущими генами и эгоистичной ДНК, окольный путь распространения репликаторов. Но это может стать головной болью для кого-то, кто, как Стил, видит в клональном отборе вспомогательное средство для возникновения организменных приспособлений.
На самом деле проблема лежит еще глубже. Она не только в том, что гены, отобранные в результате клональной селекции, будут иметь обыкновение становиться отщепенцами с точки зрения остального организма. Стил указывает на то, что клональный отбор должен ускорять темп эволюционных преобразований. Дарвиновская эволюция в традиционном понимании движется за счет дифференциального успеха организмов, и ее скорость, при прочих равных условиях, будет ограничена сроком жизни поколения особей. Клональный отбор по идее лимитируется временем генерации клеток, а это происходит (может происходить) на два порядка быстрее. Вот почему можно подумать, что он ускоряет эволюцию, но, предвосхищая предмет заключительной главы, скажу, что тут возникает громадное затруднение. Успешность такого сложного многоклеточного органа, каким, например, является глаз, невозможно оценить до того, как этот орган начнет функционировать. Межклеточный отбор не мог бы усовершенствовать строение глаза, поскольку в этом случае весь эволюционный процесс протекал бы в еще не действующем эмбриональном глазу. Глаз эмбриона закрыт, и он не увидит никаких изображений раньше, чем весь межклеточный отбор, если только он существует, уже закончится. Из вышесказанного следует, что отбор на уровне клеток не приведет к ожидаемому от него ускорению темпа эволюции, когда речь идет о приспособлениях, которые возникают на «медленной» временной шкале межклеточных взаимодействий.
Также Стил высказывает свой взгляд на проблему коадаптаций. Многомерные коадаптации были одним из ночных кошмаров первых дарвинистов — это подтверждает и Ридли всевозможными документальными примерами (Ridley, 1982). Например, если вернуться к вопросу о глазе, то Дж. Дж. Мерфи писал: «Вероятно, не будет преувеличением сказать, что усовершенствование такого органа, каким является целый глаз, потребует одновременных изменений в десяти различных направлениях» (Murphy, 1866, цит. по Ридли). Вы, возможно, помните, что в главе 6 я, рассуждая об эволюции китообразных, воспользовался подобной посылкой для других целей. Религиозные проповедники по-прежнему считают пример с глазом одним из наиболее впечатляющих номеров в своем репертуаре. Между прочим, как The Sunday Times (от 13 июля 1980 г.), так и The Guardian (от 21 ноября 1978 г.) использовали глаз в качестве повода для дебатов, как если бы это было что-то новенькое, причем в последней из упомянутых газет нас заверили, что ходят слухи, будто один выдающийся философ (!) уделил этой проблеме самое пристальное внимание. Похоже, Стила ламаркизм привлекал изначально именно из-за беспокойства по поводу коадаптаций, и он полагает, что его вариант клонально-селекционной теории мог бы разрешить затруднение, будь оно здесь.
Давайте возьмем другой бородатый пример из школьной программы — шею жирафа, и для начала обсудим в терминах общепринятой дарвиновской теории. Мутация по удлинению шеи у предка могла воздействовать, скажем, на позвонки, однако простодушному стороннему наблюдателю может показаться невероятным, чтобы та же самая мутация одновременно удлиняла артерии, вены, нервы и проч. На самом деле то, насколько это невероятно, зависит от деталей эмбриологии, которой нам следовало бы приучиться уделять больше внимания: мутация, действующая на достаточно ранней стадии развития, запросто может оказывать все эти параллельные эффекты одновременно. Но давайте сделаем вид, что согласны с такой аргументацией. Следующим ее этапом будет заявление, что трудно себе представить, как мутантный жираф с удлиненными позвонками сможет воспользоваться этим преимуществом для ощипывания древесных крон, когда его нервы, кровеносные сосуды и т. д. слишком коротки по сравнению с шеей. Обычный дарвиновский отбор, если понимать его наивно, должен ожидать появления на свет счастливой особи с возникшим внезапно комплексом из всех необходимых коадаптированных мутаций. И тут клональный отбор мог бы прийти на выручку. Одна значительная мутация — скажем, удлинение позвонков — устанавливает внутри шеи условия, запускающие процесс отбора в пользу тех клеточных клонов, которые смогут преуспевать в новой среде. Может быть, удлиненные позвонки создают в шее мощное избыточное натяжение, при котором выживают только клетки продолговатой формы. Если среди клеток имеется генетическая изменчивость, то «гены вытянутости клеток» уцелеют и передадутся жирафьему потомству. Я излагаю мысль несколько фривольно, но думаю, что при желании из клонально-селекционной теории можно было бы вывести и более наукообразные рассуждения.
В этом месте я обещал вернуться к Вейсману, поскольку он тоже видел пользу в том, чтобы привлечь к решению проблемы коадаптаций внутриорганизменный отбор. Вейсман считал, что «интраселекция» — приводящая к отбору борьба между органами и частями тела — «обеспечивала бы наилучшее взаимное соотношение между всеми составными частями организма» (Ridley, 1982). «Если я не ошибаюсь, явление, которое Дарвин называл корреляцией и справедливо считал одним из важнейших факторов эволюции, является по большей части результатом интраселекции» (Вейсман, цит. по Ридли). Как уже было сказано, далее Вейсман, в отличие от Ру, не стал призывать на помощь непосредственное наследование приобретенных признаков. Напротив: «…с помощью интраселекции каждой отдельно взятой особью будут временно достигнуты необходимые приспособления… Таким образом будет выиграно время до тех пор, пока в ходе поколений постоянный отбор тех зачатков, основные компоненты которых лучше всего соответствуют друг другу, не приведет к максимально возможному уровню гармонии». Пожалуй, мне вейсмановская версия «эффекта Болдуина» представляется более правдоподобной теорией, чем стиловский вариант ламаркизма, да и просто хорошим объяснением явления коадаптации.
В начале раздела я говорил о том, какой ужас вселяет в меня ламаркизм, и даже признался, что настоящее возрождение этой теории не оставит от моего мировоззрения камня на камне. Теперь такое заявление может показаться читателю пустословием, как если бы кто-то эффектно грозился съесть собственную шляпу, прекрасно зная, что шляпа эта сделана из ароматной рисовой бумаги. Приверженец ламаркизма может возмутиться, что последнее средство дарвиниста, бессильного дискредитировать затруднительные экспериментальные данные, — это объявить их своей собственностью, сделать свою теорию настолько эластичной, что никакой эксперимент не сможет ее опровергнуть. Я болезненно воспринимаю подобную критику и обязан на нее ответить. Я должен показать, что шляпа, которую я грозился съесть, действительно жесткая и невкусная. Итак, если предлагаемая Стилом разновидность ламаркизма — это переряженный дарвинизм, тогда какого же ламаркизма не бывает?
Ключевой вопрос заключается в том, как возникает адаптированность. Сходную мысль высказывает и Гульд, когда говорит, что наследование приобретенных признаков само по себе ламаркизмом не является: «Ламаркизм — это теория о направленной изменчивости» (Gould, 1979, курсив мой. — Р. Д.). Я подразделяю все теории о возникновении адаптированное™ на два типа. Чтобы избежать придирок исторического характера, касающихся Деталей того, что именно говорили Ламарк и Дарвин, я откажусь от названий ламаркизм и дарвинизм. Лучше я позаимствую термины у иммунологов и обозначу эти два типа теорий как инструктивные и селективные. Как уже подчеркивали Янг (Young, 1957), Лоренц (Lorenz, 1966) и другие, мы воспринимаем адаптированность как информационное соответствие между организмом и средой. Можно считать, что в животном, хорошо приспособленном к среде своего обитания, заключена информация об этой среде, подобно тому как ключ несет информацию о замке, который им открывается. Кем-то было сказано, что у обладающего защитной окраской животного на спине нарисован его родной пейзаж.
Лоренц выделял два типа теорий о том, как происходит это взаимное прилаживание организма и среды друг к другу, но оба эти типа (естественный отбор и обучение с подкреплением) являются разновидностями того, что я называю селективной теорией.
На изначальную совокупность вариантов (генетические мутации или спонтанное поведение) воздействует некий селективный процесс (естественный отбор или поощрение/наказание), в результате которого остается только то, что соответствует «замку» окружающей среды. Таков селективный способ улучшения адаптированное™. Инструктивная теория совершенно иная. Если селективный слесарь выбирает ключи из огромного случайного набора, вставляет их в замок и выбрасывает те, которые не подходят, то его инструктивный коллега просто делает восковой слепок замка и сразу изготавливает нужный ключ. Животное, покровительственная окраска которого получена инструктивным путем, похож на среду своего обитания, потому что та непосредственно накладывает свой отпечаток на его внешность — все равно как слоны сливаются с ландшафтом, потому что покрыты его пылью. Утверждалось, будто бы ротовой аппарат французов постепенно необратимо видоизменяется, чтобы лучше подходить для произнесения французских гласных. Если это так, значит, перед нами пример инструктивной адаптации. Так же, вероятно, как и соответствие хамелеона своему фону, хотя, разумеется, способность к приспособительному изменению расцветки — адаптация, по всей видимости, селективная. Такие физиологические приспособительные изменения, которые мы называем акклиматизацией и дрессировкой, натренированностью, навыками и отвыканием — все, вероятно, являются инструктивными по своей природе. Инструктивным путем можно приобретать такие сложные и хитроумные приспособления, как, например, владение одним из человеческих языков. Как я уже разъяснил, в теории Стила адаптированность возникает благодаря не инструкции, а селекции, причем идущей среди генетических репликаторов. Мое мировоззрение рухнет, если кто-нибудь откроет генетическое наследование не просто «приобретенных признаков», а инструктивно полученных приспособлений. Связано это с тем, что наследование инструктивно полученных приспособлений несовместимо с «центральной догмой эмбриологии».
| <<< Назад Эгоистичная ДНК |
Вперед >>> Несостоятельность преформизма |
- «Ужасный призрак в вышине»
- Призрак китайского мальчика
- Глава 9. Эгоистичная ДНК, скачущие гены и призрак ламаркизма
- Схватка с призраком
- Драма ламаркизма
- Призрак, лежащий в основе реальности
- Глава 18 Подразним квантовый призрак Загадочный вопрос с измерением, и как плохо мы исследуем квантовую волновую функцию
- Вычисления с призраками
- Тайный мир призраков
- Призраки морей
- ПОЛУЛЮДИ, ИЛИ ЛЮДИ-ПРИЗРАКИ
- Призраки шхуны «Чарлз Хэскил»