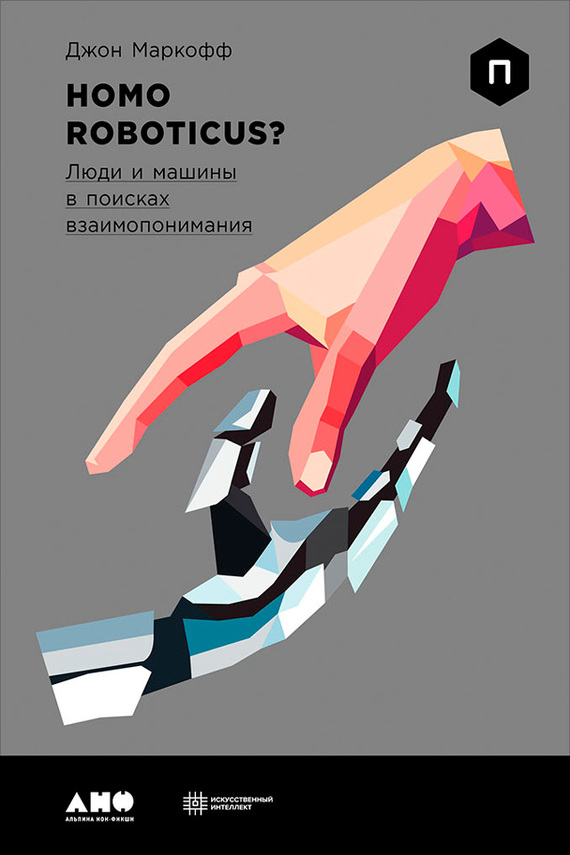Книга: Homo Roboticus? Люди и машины в поисках взаимопонимания
Глава 3 Трудный год для человечества
| <<< Назад Глава 2 Авария в пустыне |
Вперед >>> Глава 4 Взлет, падение и возрождение искусственного интеллекта |
Глава 3
Трудный год для человечества
«С помощью этих машин мы можем делать любую бытовую технику», – с энтузиазмом говорил Бинне Виссер, инженер завода Philips, участвовавший в создании роботизированной линии для сборки электробритв. Он подчеркивал, что в принципе на ней можно производить что угодно вплоть до смартфонов и компьютеров{22}.
Выпускающий электробритвы завод компании Philips в Драхтене, в трех часах езды на поезде на север от Амстердама по совершенно плоской сельской местности, дает ясное представление о том, какими будут роботизированные производства: полностью автоматизированные, не нуждающиеся в искусственном освещении заводы уже реальность, правда пока в ограниченных масштабах. Завод в Драхтене внешне выглядит как реликт тех времен, когда Philips, начинавшая с выпуска электрических лампочек и электронных ламп, превратилась в один из крупнейших в мере брендов бытовой электроники. Проиграв новым азиатским компаниям в таких областях, как производство телевизоров, Philips осталась одним из ведущих мировых производителей электробритв и ряда других потребительских товаров. Подобно многим европейским и американским компаниям она переместила значительную часть производства в Азию, где трудовые ресурсы менее дорогие. Поворотный момент наступил в 2012 г., когда Philips отказалась от переноса сборки высококачественных бритв в Китай. В условиях падения цен на датчики, роботы и камеры и роста стоимости транспортировки готовых товаров на рынки за пределами Азии Philips построила почти полностью автоматизированную сборочную линию на заводе в Драхтене. Потерпев поражение во многих категориях бытовой электроники, Philips для сохранения места на рынке решила инвестировать в производство докомпьютерных бытовых электроприборов.
Ярко освещенный одноэтажный завод представляет собой модульную мегасистему, состоящую из 128 станций с манипуляторами – сверкающих прозрачных кабин, которые связаны с соседями транспортером и напоминают заключенный в стекло аппарат для изготовления попкорна в кинотеатрах. Сама производственная линия – большое и очень сложное сооружение. Каждый из 128 манипуляторов оснащен уникальным «рабочим органом», специальной рукой для выполнения одной операции с двухсекундным интервалом. Одна операция каждые две секунды означает 30 бритв в минуту, 1800 в час, 1 304 000 в месяц и ошеломляющие 15 768 000 в год.
Роботы удивительно проворные, и каждый из них непрерывно повторяет свою операцию. Один манипулятор, например, захватывает пару пятисантиметровых проводков толщиной с зубочистку, точно сгибает и аккуратно вставляет зачищенные концы в крохотные отверстия в печатной плате. Берет он их из питателя – качающегося стола. В приемник проводки загружает техник, а потом они высыпаются на ярко освещенную поверхность под контролем расположенной сверху камеры. Как будто играя в бирюльки, рука робота захватывает по паре проводков. Если проводки лежат беспорядочно, она встряхивает стол, разделяя их, а затем захватывает еще пару. Вокруг производственной линии постоянно порхает небольшая группка людей. Команда инженеров в синих лабораторных халатах обеспечивает работу системы, подавая исходные материалы. Кроме них есть еще «группа специалистов», которые дежурят круглосуточно, поэтому ни один манипулятор не простаивает более двух часов. В отличие от заводов, где работают люди, линия никогда не спит.

Завод оснащен американскими манипуляторами, а программы для них написали европейские специалисты по автоматике. Можно ли считать это предвестником эпохи, в которую работающие на конвейере люди исчезнут? В отличие от Китая, где миллионы рабочих занимаются ручной сборкой аналогичных потребительских товаров, завод в Драхтене производит устройства механически более сложные, чем смартфоны, без использования живого труда. На заводе-автомате сбои случаются редко – система устойчива к небольшим ошибкам. На станции ближе к концу линии небольшие пластиковые элементы корпуса бритвы устанавливаются на место под вращающейся бритвенной головкой. Одна из деталей, похожая на медиатор, падает на пол. Линия не останавливается. Датчик на следующей операции обнаруживает отсутствие детали, и бритва передается на участок доработки. Единственные люди, непосредственно работающие на сборочной линии, – восемь женщин на последнем этапе процесса, контроле качества. Он пока еще не автоматизирован, поскольку человеческое ухо до сих пор превосходит все другое при определении правильности работы бритвы.
Автоматизированные заводы с выключенным освещением или роботизированные безлюдные производства создают ситуацию из разряда «есть хорошая и плохая новость». Для минимизации себестоимости товаров имеет смысл размещать заводы или возле источников сырья, трудовых ресурсов и энергии, или возле потребителей конечной продукции. Если роботы могут производить что-то дешевле, чем рабочие, то выгоднее приблизить предприятия к обслуживаемым рынкам, а не к источникам дешевой рабочей силы. И действительно, предприятия уже возвращаются в Соединенные Штаты. Завод по производству солнечных батарей компании Flextronics сейчас расположен в Милпитасе, к югу от Сан-Франциско, где большая растяжка гордо провозглашает: возвращаем рабочие места и производство в калифорнию! Но если пройтись по ее заводу во Фримонте, быстро понимаешь, что речь идет скорее о высокоавтоматизированных производствах, а не о создании рабочих мест – меньше десятка рабочих заняты на сборочной линии, выпускающей почти столько же батарей, сколько сделали бы сотни работников на предприятии компании, если бы она разместила его в Азии. «В какой момент цепная пила приходит на смену легендарному лесорубу Полу Баньяну? – спрашивает руководитель Flextronics. – Все определяет цена, и мы вплотную подошли к этому моменту»{23}.
На заре информационной эры Норберт Винер серьезно задумывался о темпах и последствиях автоматизации. Летом 1949 г. он написал трехстраничное письмо Уолтеру Рейтеру, главе профсоюза работников автопромышленности, где говорил, что отказался консультировать компанию General Electric по вопросам проектирования автоматизированного оборудования. GE обращалась к нему в 1949 г. дважды с просьбой прочитать лекцию и проконсультировать в области создания сервосистем для автоматизации производственных операций. Сервосистемы использовали обратную связь для точного контроля положения детали, что было принципиально важно для станков-автоматов, которые должны были прийти на заводы после Второй мировой войны. Винер отклонил оба предложения по этическим соображениям, хотя и понимал, что другие, не столь ответственные специалисты, скорее всего, возьмутся за это.
Винер, сильно обеспокоенный возможностью ужасных «социальных последствий», безуспешно пытался связаться с другими профсоюзами, и его разочарование явно сквозит в письме Рейтеру. К концу 1942 г. Винеру стало ясно, что в компьютер можно заложить программу управления заводом, и его волновали последствия появления «сборочной линии без людей»{24}. Программное обеспечение еще не стало силой, которая, по словам пионера области браузеров Марка Андриссена, «съест весь мир», но Винер ясно обрисовал Рейтеру дальнейший ход событий. «Разработка машинного оборудования для конкретной производственной цели – задача, требующая высокой квалификации, но не механического подхода, – писал он. – Это достигается путем „закладывания программ“ во многом подобно тому, как на современных вычислительных машинах»{25}. Сегодня мы называем это программированием, и программное обеспечение приводит в движение экономику и фактически современное общество во всех его аспектах.
В письме Рейтеру Винер предсказывал апокалипсис. «Это устройство предельно гибко и пригодно для массового воспроизведения, что, без сомнения, приведет к появлению заводов без рабочих, например автоматических линий сборки автомобилей, – писал он. – При нынешней организации промышленного производства безработица, обусловленная автоматизацией заводов, может быть только катастрофической». Рейтер ответил телеграммой: Очень заинтересовался вашим письмом. Хотел бы обсудить его с вами как можно скорее.
Рейтер ответил в августе 1949 г., но только в марте 1951 г. эти два человека встретились в одном из бостонских отелей{26}. Они посидели в ресторане и договорились создать «Ассоциацию труда, науки и образования»{27}, призванную предотвратить наихудшие последствия грядущей эпохи автоматизации для промышленных рабочих страны. К моменту их встречи Винер уже опубликовал книгу «Кибернетика и общество», где указывал на потенциальные преимущества автоматизации и предупреждал о возможности порабощения человека машинами. В первой половине 1950-х гг. он был востребованным лектором национального масштаба и постоянно высказывал свои опасения относительно безудержной автоматизации и концепции роботизированного оружия. После встречи Винер с энтузиазмом говорил, что «нашел в г-не Рейтере и его соратниках именно то более универсальное профсоюзное мышление, которого так не хватало при первых попытках вступить в контакт с профсоюзами»{28}.
Винер был не единственным, кто пытался привлечь внимание Рейтера к опасностям автоматизации. Через несколько лет после встречи с Винером Рейтер получил аналогичный сигнал от председателя профсоюза рабочих автомобильной промышленности UAW 1250 Альфреда Гранакиса. Тот столкнулся с сокращением рабочих мест после внедрения новых технологий автоматизации на двигателестроительном и литейном заводе Ford Motor в Кливленде, штат Огайо. По его словам, завод «был реальным прообразом полностью автоматизированного предприятия в автомобильной промышленности». Он спрашивал: «Что делать со всем этим в экономическом плане, Уолтер? Я очень опасаюсь появления экономического "Франкенштейна", рождению которого я способствовал. По моему мнению, профсоюзное движение ждут трудные времена»{29}.
Винер порвал с научным и техническим истеблишментом несколькими годами ранее. Свою убежденность в обязательности этики в науке он выразил в письме в журнал Atlantic Monthly, озаглавленном «Ученые-бунтари» и опубликованном в декабре 1946 г., через год после потрясения, связанного с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. Это письмо содержало ответ Винера на предложение компании Boeing провести технический анализ эффективности управляемых ракет во время Второй мировой войны: «Использование управляемых ракет может привести только к неизбирательному уничтожению гражданского населения другой стороны и не обеспечивает ему никакой защиты»{30}. Там же поднимался вопрос о моральной стороне применения атомных бомб: «Обмен идеями, составляющий одну из великих традиций науки, должен, конечно, иметь определенные ограничения, когда ученый становится арбитром в вопросе жизни и смерти»{31}.
В январе 1947 г. Винер отказался от участия в симпозиуме по вычислительной технике в Гарвардском университете в знак протеста против использования систем в «военных целях». В 1940-е гг. и компьютеры, и роботы были предметом научной фантастики, и можно лишь удивляться, насколько отчетливо Винер предвидел эффект применения технологий, который проявляется только сегодня. В 1949 г. New York Times предложила Винеру изложить свои взгляды на то, «какой будет машинная эпоха», как выразился бессменный редактор воскресного выпуска Лестер Маркел. Винер принял приглашение и написал черновую статью. Легендарно автократичному Маркелу она не понравилась, и он попросил переделать ее. Винер написал новый вариант, но из-за ряда накладок, характерных для доинтернетовской эпохи, статья так и не вышла в свет в то время.
В августе 1949 г., как свидетельствуют документы Винера, хранящиеся в Массачусетском технологическом институте, Times просила его вновь выслать первый вариант статьи, чтобы объединить со вторым. (Не ясно, почему редакторы отклонили первый вариант.) «Не могли бы вы выслать мне первый вариант, и мы посмотрим, можно ли сделать из двух статей одну, – писал руководитель редакции воскресного выпуска, которая в то время была самостоятельной. – Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что во втором варианте вы опускаете часть ваших лучших идей». Винер, который в тот момент путешествовал по Мексике, ответил: «Я считаю, что первая версия моей статьи уже дело прошлого. Чтобы получить ее в моем офисе в Массачусетском технологическом институте, потребуется масса писанины и отвлечение от дел целого ряда людей. Поэтому вопрос закрыт, и я отказываюсь от этого мероприятия».
На следующей неделе редактор Times вернул Винеру второй вариант, который в конце концов оказался в «Архивах и специальных собраниях» библиотеки Массачусетского технологического института и оставался там до декабря 2012 г., когда был обнаружен независимым ученым Андерсом Фернстедтом, занимавшимся наследием трех венских философов – Карла Поппера, Фридриха Хайека и Эрнста Гомбриха, работавших в Лондоне большую часть XX в.{32} В неопубликованной статье опасения Винера очевидны: «Эти новые машины движутся в сторону замены людей в принятии решений на всех уровнях, за исключением высшего, а не замены человека там, где требуется энергия и сила. Уже сейчас понятно, что такая замена окажет глубокое влияние на нашу жизнь».
Винер продолжал говорить о появлении заводов «без рабочих» и возрастании важности «закладывания программ». Он довольно отчетливо намекнул на теоретическую возможность и практические последствия обучения машин: «Ограничения подобной машины заключаются только в понимании целей, которые необходимо достичь, в потенциале каждой фазы процессов их достижения и в нашей способности логически определить комбинации этих процессов, необходимые для достижения целей. Грубо говоря, если мы можем делать что-либо в ясной и понятной форме, то это может сделать и машина»{33}.
На заре компьютерной эры Винер видел и прямо говорил, что автоматизация способна снизить ценность «рядового» работника предприятия до уровня «не стоит нанимать ни за какие деньги» и что «нас ждет предельно жестокая промышленная революция».
У него не только были мрачные предчувствия относительно компьютерной революции, он предвидел нечто еще более пугающее: «Если мы будем двигаться в направлении производства машин, которые обучаются и поведение которых изменяется с опытом, то нам нужно готовиться к тому, что каждая толика независимости, предоставляемая машине, будет превращаться в возможность неподчинения нашим желаниям. Джинн, выпущенный из бутылки, не вернется в нее добровольно, и у нас нет оснований рассчитывать, что они будут хорошо относиться к нам»{34}.
В начале 1950-х гг. Рейтер и Винер выдвинули идею создания «Ассоциации труда, науки и образования», но это партнерство не дало немедленного эффекта в какой-то мере из-за состояния здоровья Винера, а в какой-то из-за того, что Рейтер представлял часть профсоюзного движения США, которая считала автоматизацию неизбежным атрибутом прогресса, – профсоюзный лидер намеревался выторговывать экономические выгоды, играя на воздействиях технологии: «В конечном итоге с современными рабочими процессами придется смириться, получив за них компенсацию в виде увеличения времени досуга и творческого отдыха. В своем принятии автоматизации и новой технологии он, похоже, был полностью захвачен ростом эффективности как желанного и в общем нейтрального условия»{35}.
Предупреждение Винера все же высекло искру, но не в 1950-х гг., в десятилетие правления республиканцев, когда у профсоюзного движения было немного сторонников в правительстве. Только после избрания Кеннеди в 1960 г. и при его преемнике Линдоне Джонсоне партнерство Винера и Рейтера привело к рождению одной из немногих серьезных инициатив правительства США по решению проблемы автоматизации – в августе 1964 г. Джонсон создал комиссию для исследования влияния технологии на экономику.
Определенное давление оказали левые. Президенту было направлено открытое письмо от имени группы, называвшей себя Специальным комитетом по тройственной революции и включавшей среди прочих главу демократических социалистов Америки Майкла Харрингтона, соучредителя организации «Студенты за демократическое общество» Тома Хейдена, химика Лайнуса Полинга, шведского экономиста Гуннара Мюрдаля, пацифиста Абрахама Масти, историка экономики Роберта Хейлбронера, публициста Ирвинга Хау, борца за гражданские права Байарда Растина и кандидата в президенты от Социалистической партии Нормана Томаса.
Первой революцией, о которой писали они, была «кибернетизация»: «Началась новая производственная эпоха. Принципы ее организации настолько отличаются от принципов индустриальной эпохи, насколько принципы индустриальной эпохи отличаются от сельскохозяйственной. Кибернетическая революция стала следствием союза компьютеров и самоуправляемых машин. Это ведет к появлению систем практически неограниченной производственной мощности, которые требуют все меньше живого труда»{36}. В состав Национальной комиссии по технологии, автоматизации и экономическому прогрессу вошли такие яркие личности, как Рейтер, Томас Уотсон-младший из IBM, Эдвин Лэнд из Polaroid, экономист из Массачусетского технологического института Роберт Солоу и социолог из Колумбийского университета Дэниел Белл.
Выпущенный в конце 1966 г. 115-страничный отчет сопровождался приложением на 1787 страницах, содержавшим заключения внешних экспертов. Пол Армер из корпорации RAND представил 232-страничный анализ с предсказанием влияния информационных технологий. Сегодня мы видим, что заголовки разделов анализа совершенно правильны: «Компьютеры становятся более быстродействующими, миниатюрными и дешевыми»; «Вычислительные мощности станут доступными подобно электричеству и телефонам в наши дни»; «Сама информация станет дешевой и доступной»; «Компьютерами будет легче пользоваться»; «Компьютеры будут использоваться для обработки изображений и графической информации» и «Компьютеры будут использоваться для обработки текстов на естественных языках». Но в целом отчет придерживался традиционной кейнсианской позиции: «Технология ликвидирует рабочие места, не работу». Из этого следовал вывод, что технологическое замещение людей будет временным, но необходимым этапом на пути к экономическому росту.
Дебаты относительно будущей технологической безработицы стихли с оживлением экономики, в какой-то мере их оттеснила война во Вьетнаме, а послевоенные гражданские волнения в конце 1960-х гг. задвинули проблему еще дальше. Через полтора десятилетия после первых предупреждений о последствиях появления автоматизированных машин Винер обратил свои мысли к религии и технологии, оставаясь идейным гуманистом. В своей последней книге «Творец и голем» (God & Golem, Inc.) он попытался взглянуть на будущие отношения человека с машиной через призму религии. Обращаясь к аллегории голема, Винер указывал, что, несмотря на самые лучшие намерения, люди никогда не понимают до конца последствия своих изобретений{37}.
Стивен Хеймс, составитель биографий Джона фон Неймана и Винера, отмечает, что в конце 1960-х гг. он интересовался мнением ряда математиков и ученых о винеровской философии технологии. Общая реакция была такой: «Винер был великим математиком, но отличался эксцентричностью. Когда он пускался в рассуждения об обществе и ответственности ученых и выходил за пределы своей специальности, его просто невозможно было воспринимать всерьез»{38}.
Хеймс делает вывод, что социальная философия Винера задела за живое научное сообщество. Если бы ученые признали значение идей Винера, им пришлось бы пересмотреть глубоко укоренившиеся представления о личной ответственности, а делать это они не слишком хотели. «Продолжая род, человек создает человека по своему образу и подобию, – писал Винер в «Творце и големе». – Это своего рода аналогия акта творения, в процессе которого Бог создал человека по своему образу и подобию. Может ли что-то подобное происходить в менее сложном (и, может быть, более понятном) мире неживых систем, которые мы называем машинами?»{39}
Незадолго до ухода Винера из жизни в 1964 г. U. S. News & World Report задал ему вопрос: «Д-р Винер, есть ли опасность, что машины, т. е. компьютеры, однажды станут выше человека?» Он дал такой ответ: «Определенно существует такая опасность, если мы не займем реалистичную позицию. Опасность – это фактически интеллектуальная лень. Некоторые зачарованы словом „машина“ и не понимают, что? машины могут, а чего нет и что можно оставить людям, а чего нельзя»{40}.
Только сейчас, через шесть с половиной десятилетий после публикации в 1948 г. «Кибернетики» Винера, вопрос об автономности машин стал не гипотетическим. В Пентагоне ломают головы над последствиями появления нового поколения самонаводящихся автономных средств поражения{41}, а философы бьются над «проблемой вагонетки» в стремлении осмыслить моральный аспект использования беспилотных автомобилей. В течение следующего десятилетия последствия создания автономных машин будут проявляться все чаще по мере того, как производство, логистика, транспорт, образование, медицинское обслуживание и связь все больше оказываются под контролем обучающихся систем, а не людей.
Несмотря на попытки Винера сыграть роль эдакого Пола Ревира[4], когда дебаты об автоматизации 1950–1960-х гг. стихли, страхи перед технологической безработицей ушли из общественного сознания и не возвращались практически до 2011 г. Подавляющее большинство экономистов соглашались с тем, что все это было, как они выражались, «ошибкой луддитов». Еще в 1930 г. Джон Мейнард Кейнс сформулировал общее представление о широком воздействии новой технологии: «Нас поразила новая болезнь, название которой некоторые читатели, возможно, пока не знают, но о которой они услышат еще не раз в ближайшие годы, – технологическая безработица. Иначе говоря, безработица вследствие того, что мы изобретаем средства сокращения потребности в труде быстрее, чем можем найти новое применение высвободившейся рабочей силе. Но это лишь временная фаза болезненной адаптации»{42}.
Кейнс одним из первых заметил, что технология – мощный генератор новых рабочих мест. Но то, что он называл «временным», на самом деле очень относительно. В конце концов, он также говорил, что в «долгосрочной перспективе» мы все умрем.
В 1995 г. экономист Джереми Рифкин написал книгу «Конец работы: Глобальное сокращение занятости и заря пострыночной эры» (The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era). Сжатие сельскохозяйственной экономики и быстрый рост занятости в промышленности полностью подтверждали идею Кейнса о замещении, но Рифкин утверждал, что внедрение новых информационных технологий будет качественно отличаться от предыдущих волн автоматизации промышленности. Для начала он отметил, что в 1995 г. безработица поднялась в глобальном масштабе до самого высокого уровня со времен депрессии в 1930-х гг. и что в мире 800 млн полностью или частично безработных. «Реструктуризация производственной практики и непрерывный процесс замены людей машинами начали отрицательно сказываться на миллионах рабочих», – писал он{43}.
Вместе с тем число рабочих мест в Соединенных Штатах в течение десятилетия после публикации его книги выросло со 115 млн до 137 млн. Это означает, что численность занятых повысилась более чем на 19 %, в то время как население страны увеличилось только на 11 %. Более того, такие ключевые экономические индикаторы, как уровень экономической активности, отношение количества занятых к численности трудоспособного населения и уровень безработицы не свидетельствовали о появлении технологической безработицы. Очевидно, что все было не так однозначно, как рисовал Рифкин в своих черно-белых прогнозах. Например, с 1970-х гг. перемещение рабочих мест в страны с низкими производственными затратами и развитие телекоммуникационных сетей, позволившее транснациональным компаниям использовать белые воротнички в других местах, гораздо сильнее сказывались на внутренней занятости, чем автоматизация. По этой причине работа Рифкина, как и предупреждения Винера, не произвела должного эффекта.
После рецессии 2008 г. появились признаки новой и более широкой технологической трансформации. Белые воротнички были двигателем роста экономики США с конца Второй мировой войны, но ситуация стала меняться. То, что когда-то было стабильной офисной работой, начало исчезать. Привычные офисные функции попали в группу риска на фоне восстановления экономики в 2009 г. путем так называемого «выхода из рецессии без создания рабочих мест». По всем признакам впервые в истории под ударом оказались места работников умственного труда в средней части экономической пирамиды. Экономисты вроде Дэвида Отора из Массачусетского технологического института, проанализировав специфику изменения структуры рабочей силы, заявили, что экономика США «становится пустотелой». Она может продолжать расти внизу и вверху, но рабочие места среднего уровня, принципиально важные для современной демократии, исчезают.
Все больше свидетельств того, что технологии не просто вымывают рабочие места, а «понижают статус» работников. В ряде случаев высокопрестижные профессии обесцениваются в результате снижения стоимости информации и появления таких коммуникационных технологий, как глобальные компьютерные сети. Более того, впервые искусственный интеллект вторгается в сферу высококвалифицированной работы, покушаясь, например, на места юристов с зарплатой $400 в час и среднего юридического персонала с зарплатой $175 в час. Когда индустрия искусственного интеллекта вновь обрела импульс в начале 2000-х гг., стали появляться новые приложения на основе понимания естественного языка, подобные e-discovery для автоматической подборки необходимых юридических документов. Программное обеспечение скоро выйдет за пределы простой идентификации ключевых слов в электронной почте. Программы поиска электронных документов быстро развиваются и уже позволяют сканировать миллионы электронных документов, распознавать основные идеи и даже находить явные улики, т. е. свидетельства незаконной деятельности или неправомерного поведения.
Программные средства превратились в важный инструмент при судебных процессах против компаний, обычно требующих поиска необходимого материала среди миллионов документов. Сравнительные исследования показали, что машины могут не хуже, а то и лучше людей анализировать и классифицировать документы. «С точки зрения кадров в юридической сфере это означает, что множество людей, занимавшихся проверкой документов, больше не нужны, – говорит Билл Герр, юрист крупной химической компании, которому не раз приходилось на недели усаживать группы помощников для разбора документов и корреспонденции. – Люди устают, у них болит голова. У компьютеров – нет»{44}.
Наблюдение за тем, как технологии, подобные e-discovery, отнимают работу у юристов, подвигло независимого инженера и владельца софтверной фирмы из Кремниевой долины Мартина Форда написать книгу «Технологии, которые изменят мир»[5] (The Lights in the Tunnel: Automation, Accelerating Technology and the Economy of the Future), вышедшую в свет в конце 2009 г. По мнению Форда, влияние информационной технологии на рынок труда проявляется гораздо быстрее, чем считалось. Как профессионал в сфере программного обеспечения, он смотрел на проблему крайне пессимистично. Какое-то время голос Форда звучал одиноко, во многом подобно Рифкину с его «Концом работы» в 1995 г., но на фоне углубления рецессии и сложностей с объяснением отсутствия роста числа рабочих мест к нему вскоре присоединились технологи и экономисты, предупреждавшие о серьезности технологического скачка.
В 2011 г. два экономиста из Школы менеджмента Слоуна при Массачусетском технологическом институте – Эрик Бринолфссон и Эндрю Макафи подготовили обширное эссе под названием «Гонка с машинами: Как цифровая революция ускоряет инновации, повышает производительность и необратимо изменяет трудовые отношения и экономику» (Race Against the Machine: How the Digital Revolution Is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy). Их основной тезис выглядел так: «Цифровые технологии быстро меняются, а организации и профессии не успевают за ними. В результате миллионы людей оказываются не у дел. Их источники дохода и рабочие места ликвидируются, а положение становится хуже, чем до цифровой революции»{45}. «Гонка с машинами» была в духе самиздата выложена в интернете и подхлестнула дискуссию об автоматизации. Ее центральная концепция заключалась в том, что на этот раз из-за ускорения компьютеризации рабочих мест кейнсианского решения, т. е. появления новых сфер занятости, не будет.
Бринолфссон и Макафи, подобно Мартину Форду, отслеживают хронику все более широкого применения технологий, которые уже изменили характер работы или вплотную подошли к этому. Самой беспощадной в новой волне критических выступлений была, пожалуй, диссертация Дэвида Отора. Но даже ее автор стал осторожничать в 2014 г., когда вышел отчет, указывавший на усиление процесса «деквалификации» труда в США и снижение спроса на профессии, требующие когнитивных навыков. Его беспокоило, что это может быть свидетельством формирования нисходящей тенденции. Как утверждали Пол Бодри, Дэвид Грин и Бен Сэнд в рабочем докладе Национального бюро экономических исследований, последствием является вытеснение более квалифицированными работниками менее квалифицированных из состава рабочей силы{46}. Хотя у них и не было прямых данных о применении конкретных видов технологий, анализ последствий для верхушки пирамиды рабочей силы пугает. Они пишут: «Многие исследователи отмечали сильный и устойчивый рост спроса на высококвалифицированный труд в десятилетия, предшествовавшие 2000 г. По нашим данным, этот спрос начал снижаться после 2000 г. несмотря на то, что приток высокообразованных работников продолжал расти. Мы показываем, что в результате такого изменения спроса высококвалифицированные работники опустились на более низкий уровень в иерархии профессий и стали заниматься видами деятельности, традиционно осуществляемыми менее квалифицированными работниками»{47}. Так или иначе, несмотря на страхи относительно «конца работы» из-за появления машин, которые могут видеть, слышать, говорить и осязать, рабочая сила вела себя совсем не так, как если бы ее в ближайшем будущем ждал коллапс, обусловленный техническим прогрессом. На практике за десятилетие с 2003 по 2013 г. численность работающих в США выросла более чем на 5 % – с 131,4 млн до 138,3 млн человек, впрочем, население выросло за этот период более чем на 9 %.
Хотя это и не коллапс, замедление темпа роста тоже сулит нам более тревожную и сложную реальность. Возможно, изменения пойдут по пути не чистой деквалификации, а приведут к широкому «несоответствию квалификаций», более отвечающему кейнсианским ожиданиям. Например, недавний отчет McKinsey о будущем работы показал, что в 2001–2009 гг. уменьшилось количество рабочих мест, связанных с хозяйственными операциями и производством, но появилось более 4,8 млн офисных должностей, связанных с обменом информацией и решением проблем{48}. Ясно одно – под риском рабочие места и синих воротничков, и белых воротничков, занимающихся рутинными задачами. В 2013 г. Financial Times сообщила, что в 2007–2012 гг. в США численность менеджеров увеличилась на 387 000, а численность офисных служащих сократилась почти на 2 млн{49}. Это проявление того, что часто называют эпохой Web 2.0. Второе поколение коммерческих приложений для интернета привело к возникновению ряда программных протоколов и семейств продуктов, которые упростили интеграцию бизнес-функций. Такие компании, как IBM, HP, SAP, PeopleSoft и Oracle, помогли корпорациям относительно быстро автоматизировать рутинную хозяйственную деятельность. Результатом стало резкое сокращение количества офисных служащих.
Однако даже в сфере конторского труда есть тонкости, из-за которых предсказания о последствиях автоматизации и полном уничтожении рабочих мест вряд ли воплотятся в жизнь. Внедрение банкоматов очень хорошо показывает сложность взаимосвязи средств автоматизации, компьютерных сетей с динамикой трудовых ресурсов. В 2011 г. при обсуждении экономических вопросов этот пример привел Барак Обама: «В нашей экономике есть такие структурные аспекты, которые позволили множеству компаний стать более эффективными с гораздо меньшим количеством работающих. Вы видите это, когда пользуетесь банкоматом, а не услугами кассира банка. Или когда в аэропорту вы пользуетесь терминалом самообслуживания, а не обращаетесь к стойке регистрации»{50}.
Это вызвало политическую шумиху вокруг влияния автоматизации. Дело в том, что, несмотря на появление банкоматов, кассиры не исчезли. В 2004 г. Чарльз Фишман отмечал в журнале Fast Company, что на заре использования банкоматов в 1985 г., когда их было около 60 000, число кассиров достигало 485 000, а в 2002 г., когда количество банкоматов увеличилось до 352 000, численность кассиров выросла до 527 000. В 2011 г. журнал Economist привел данные о том, что в 2008 г. их было 600 500, а по прогнозам Бюро трудовой статистики Министерства труда США этот показатель должен вырасти к 2018 г. до 638 000. Более того, Economist отметил, что в 2008 г. в этой сфере трудились также 152 900 «специалистов по ремонту компьютеров, банкоматов и офисной техники»{51}. Так или иначе, а анализ вопроса с банкоматами в отрыве от общего контекста не дает представления о сложности процесса встраивания автоматизированных систем в экономику.
Данные Бюро трудовой статистики показывают, что реальная трансформация происходит в бэк-офисах, на которые в 1972 г. приходилось порядка 70 % численности банковских работников: «Во-первых, автоматизация основной задачи по обслуживанию клиентов сократила количество работающих в этом секторе на 25 %. Во-вторых, банкоматы не заменяют работающих с клиентами кассиров, но ликвидируют тысячи менее заметных офисных рабочих мест»{52}. Точно оценить влияние автоматизации бэк-офиса в банковской сфере сложно, поскольку в 1982 г. Бюро трудовой статистики изменило способ учета банковских служащих. Бесспорно, однако, что рабочие места банковских служащих продолжают исчезать.
Заглядывая вперед, можно предположить, что влияние новых компьютерных технологий на кассиров будет сродни эффекту появления беспилотных автомобилей для доставки грузов. Даже если технология станет более совершенной – а перспективы здесь пока что туманны, поскольку доставка связана со сложным взаимодействием с компаниями и индивидуальными клиентами, – персонал на «последней миле» все равно будет трудно заменить.
Несмотря на сложность разграничения последствий рецессии и применения новых технологий, взаимосвязь между автоматизацией и быстрыми экономическими изменениями все чаще используется как основание для вывода о том, что США ждет кризис занятости или по меньшей мере длительный период несоответствия квалификаций. Бринолфссон и Макафи утверждают, что это реально, в расширенной версии «Гонки с машинами», озаглавленной «Вторая эпоха машин: Работа, прогресс и процветание во времена совершенных технологий» (The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies). Аналогичное мнение высказывает известный специалист по теории вычислительной техники Джарон Ланье, работающий в Microsoft Research, в книге «Кто владеет будущим?» (Who Owns the Future?). Обе книги указывают на прямую связь между появлением Instagram, интернет-сервисом для обмена фотографиями, приобретенным Facebook за $1 млрд в 2012 г., и упадком Kodak, символа фотоиндустрии, которая в том же году объявила о банкротстве. «Команда всего из 15 человек в Instagram создала простое приложение, позволившее 130 млн клиентов обмениваться примерно 16 млрд фотографий, – пишут Бринолфссон и Макафи. – В компаниях, подобных Instagram и Facebook, работает лишь малая толика людей, которые требовались Kodak. Тем не менее рыночная стоимость Facebook в несколько раз больше, чем когда-либо была у Kodak, и в ней к настоящему времени родились по меньшей мере семь миллиардеров, каждый из которых владеет сетью десятикратно большей, чем была у [основателя Kodak] Джорджа Истмана»{53}.
Ланье говорит о проблемах Kodak еще более откровенно: «Они ведь изобрели первую цифровую камеру. Но сегодня Kodak – банкрот, и новым лицом цифровой фотографии стала Instagram. Когда в 2012 г. Instagram была продана Facebook за миллиард долларов, в ней работали только 13 человек. Куда делись ликвидированные рабочие места? И что случилось с благополучием, которое они создавали для среднего класса?»{54}
Слабое место этих аргументов в том, что они не показывают истинного соотношения рабочих мест и игнорируют реальность финансовых проблем Kodak. Во-первых, даже если считать, что Instagram действительно уничтожила Kodak (а это не так), то соотношение рабочих мест совершенно не такое, как приведенное (13 против 145 000). Сервисы вроде Instagram появились не на пустом месте, а только тогда, когда интернет достиг зрелости и создал миллионы по большей части высококлассных рабочих мест. Это ясно показал издатель и организатор конференций Тим О'Рейли: «Задумайтесь, действительно ли Instagram вытеснила Kodak? А может быть, это дело рук Apple, Samsung и других производителей смартфонов, пришедших на смену фотоаппаратам? И разве не провайдеры сетевых услуг, центры обработки данных и поставщики оборудования устранили потребность в пленке, которую раньше продавала Kodak? В Apple работает 72 000 человек (по сравнению с 10 000 в 2002 г.). У Samsung 270 000 сотрудников, у Comcast – 126 000 и т. д.»{55}. Даже О'Рейли очень далек от представления полной картины положительного экономического эффекта интернета. Проведенное McKinsey в 2011 г. исследование показало, что глобально интернет создает 2,6 нового рабочего места на каждое потерянное место и что именно он обеспечивал 21 % роста ВВП на протяжении пяти предыдущих лет в развитых странах{56}. Другим аргументом в споре Kodak и Instagram является то, что Kodak пострадала от перехода на цифровые технологии, а ее главный конкурент FujiFilm – нет{57}.
Причины упадка Kodak сложнее таких объяснений, как «они проглядели цифру» или «они не купили (или не создали) Instagram». К числу проблем относились масштаб, возраст и быстрота развития событий. У компании было значительное количество пенсионеров, а ее внутренняя культура допустила потерю старых талантов и не обеспечила привлечение новых. Это обернулось катастрофой. Kodak безуспешно пыталась войти в фармацевтическую отрасль, провалились и попытки переключиться на технологии медицинской визуализации.
Новые опасения в отношении автоматизации с использованием искусственного интеллекта и связанного с ней сокращения числа рабочих мест могут в конечном итоге оказаться небеспочвенными, однако не исключено, что те, кто бьет тревогу, просто зациклились на прошлых представлениях. Если рассматривать ситуацию с точки зрения противостояния «искусственный интеллект – технологии усиления интеллекта», то есть надежда, что люди по-прежнему сохраняют неограниченную способность и развлекаться, и работать над чем-то востребованным и полезным.
Но если люди не правы, то 2045 г. может стать для человечества началом трудных времен.
Или технологического рая.
Или и того и другого.
В 2045 г., по предсказанию Рэя Курцвейла, люди выйдут за биологические рамки и, возможно, изменят свою судьбу{58}.
Курцвейл – предприниматель в области искусственного интеллекта и футуролог. В 2012 г. он стал техническим директором Google для развития идей по созданию искусственного «разума». Курцвейл – яркий представитель сообщества лучших специалистов Кремниевой долины, которых вдохновляли идеи специалиста по информатике и автора научно-популярных книг Вернора Винджа о неизбежности достижения «технологической сингулярности», т. е. точки, когда машинный интеллект превзойдет человеческий. Когда Виндж в 1993 г. впервые написал об идее сингулярности, он отвел довольно широкий интервал времени (2005–2030 гг.), в котором компьютеры могут стать «сознательными» и превзойти человека{59}.
Сторонники сингулярности исходят из неизбежности взаимодополняющего экспоненциального развития различных информационных технологий – от вычислительной мощности до накопителей информации. В определенном смысле это религиозная вера в силу экспоненциального развития технологий, идея, которая была исследована Робертом Герачи в книге «Апокалипсис: Рай для роботов, искусственного интеллекта и виртуальной реальности» (Apocalyptic AI: Visions of Heaven in Robotics, Artificial Intelligence, and Virtual Reality). Он находит интересные социологические параллели между размышлениями о сингулярности и мессианскими традициями{60}.
Гипотеза сингулярности строится также на новейших исследованиях в сфере искусственного интеллекта, начало которым положил Родни Брукс, предложивший создавать сложные робототехнические системы путем группирования более простых элементов. И Курцвейл в книге «Эволюция разума»[6] и Джефф Хокинс в своей ранней работе «Об интеллекте»[7] проводят мысль, что после открытия простых биологических «алгоритмов», лежащих в основе человеческого интеллекта, создание обладающих интеллектом машин – вопрос простого «масштабирования». Эти идеи очень противоречивы, их резко критикуют нейробиологи, но о них все же стоит упомянуть, поскольку они используются как аргументы в новых дебатах об автоматизации. Что больше всего сегодня бросается в глаза, так это огромный разброс мнений относительно будущего живого труда в зависимости от интерпретации одних и тех же данных.
Моше Варди – ученый-компьютерщик из Университета Райса, работавший главным редактором журнала Communications of the ACM. В 2012 г. он публично заявил, что ускорение развития искусственного интеллекта настолько значительно, что живой труд уйдет в прошлое в течение трех десятилетий. В октябре 2012 г. Варди выступил в журнале Atlantic со статьей «Преемники человеческого интеллекта»{61}, которая в большей мере отражает мнение сообщества разработчиков искусственного интеллекта. Он написал: «Я считаю, что революция, которую несет с собой искусственный интеллект, отличается от промышленной революции. В XIX в. машины конкурировали с мышцами человека. Сейчас они конкурируют с человеческим мозгом. Роботы сочетают интеллект и физическую силу. Перед нами маячит перспектива полного проигрыша своим собственным созданиям»{62}.
Варди считает, что области, в которых наблюдается активный рост занятости, например в экономике на основе поиска в сети, где новые рабочие места связаны с такими задачами, как оптимизация поисковых систем, по определению уязвимы в ближайшей перспективе. «Если взять оптимизацию поисковых систем, то сейчас там действительно создаются рабочие места, – говорит он. – Но с чем они связаны? С изучением того, как реально работают поисковые системы, и применением полученных знаний при создании веб-страниц. Можно сказать, что это проблема обучения машин. Возможно, в текущий момент там и нужны люди, но эти парни [разработчики программных средств автоматизации] не сидят сложа руки»{63}.
Многие, подобно Варди, полагают, что рыночная экономика не защитит людей от последствий автоматизации. Как и другие «сингулярианцы», он очерчивает возможности по их смягчению. Бринолфссон и Макафи во «Второй эпохе машин», например, приводят широкий набор условий в стиле Нового курса[8]: «хорошая программа обучения детей», «поддержка наших ученых», «совершенствование инфраструктуры». Другие вместе с профессором Гарвардской школы бизнеса Клейтоном Кристенсеном высказываются за направление усилий на технологии, которые создают, а не уничтожают рабочие места (совершенно очевидная позиция в пользу усиления интеллекта).
Но если те, кто верят в ускорение изменений, бьют тревогу по поводу их потенциальных последствий, то другие более оптимистично смотрят на перспективы. Основанная в 1987 г. Международная федерация робототехники со штаб-квартирой в Гамбурге, Германия, в отчетах, выпущенных в 2013 г. и позже, не без своекорыстия доказывает, что производственные роботы реально стимулируют экономическую активность и вместо повышения безработицы прямо и косвенно увеличивают общее количество рабочих мест. В исследовании, обнародованном в феврале 2013 г., подчеркивается, что робототехническая промышленность прямо и косвенно создаст в мире к 2020 г. от 1,9 до 3,5 млн рабочих мест{64}. В уточненном на следующий год отчете отмечено, что внедрение каждого робота привело к созданию 3,6 рабочего места.
Ну а если сторонники сингулярности не правы? Весной 2012 г. называющий себя «ворчуном» экономист из Северо-Западного университета Роберт Гордон бросил камень в сторону Кремниевой долины за бравирование тем, что она несет «инновации, создающие рабочие места и способствующие прогрессу», заметив, что заявления о достижениях не проявляются в общепринятых показателях производительности. В часто цитируемой Белой книге 2012 г. Национального бюро экономических исследований он подчеркнул, что всплеск производительности в XX в. был разовым событием. Гордон также отметил, что технологии автоматизации, расхваливаемые теми, кого он позже назвал «технооптимистами», не дали такого же эффекта, как промышленные инновации XIX в. «Связанная с компьютерами и интернетом революция началась примерно в 1960 г. и достигла кульминации в эру доткомов в конце 1990-х гг., но ее влияние на производительность сошло на нет в последние восемь лет, – пишет он. – Многие из изобретений, связанных с компьютеризацией скучного и однообразного труда офисных работников, были сделаны еще в 1970-х и 1980-х гг. Изобретения с 2000 г. касаются главным образом миниатюризации, расширения возможностей и быстродействия средств развлечения и связи и не меняют фундаментально производительность труда или уровень жизни так, как это сделали электричество, автомобили, водопровод и канализация»{65}.
В каком-то смысле это была разгромная критика веры Кремниевой долины в «просачивание благ сверху вниз» от экспоненциального развития в области интегральных схем. Если бы технооптимисты были правы, новая информационная технология должна была бы вызвать взрывной рост производительности, особенно после появления интернета. Гордон заметил, что, в отличие от прежних промышленных революций, компьютерная революция не принесла сопоставимого изменения производительности. «Нам напоминают о законе Мура, предсказывающем бесконечный экспоненциальный рост мощности компьютерных чипов, и умалчивают о том, что отношение мощность/цена для информационно-коммуникационного оборудования достигло пика в 1998 г. и с той поры идет вниз», – добавил он в 2014 г.{66}
Гордон был готов к спору со своими противниками, прежде всего с Эриком Бринолфссоном, на конференции TED весной 2013 г. Во время дебатов, модератором которых был Крис Андерсон, они сошлись в поединке по вопросу о последствиях развития робототехники и о том, продолжится ли экспоненциальный рост или мы достигли верхней точки S-образной кривой, за которой нас ждет движение вниз{67}. Технооптимисты считают, что лаг между созданием и восприятием технологии просто задерживает появление прироста производительности, и, хотя экспоненциальное развитие неизбежно замедляется, оно дает начало последующим изобретениям (так, за вакуумной лампой последовал транзистор, а за ним интегральная схема).
Гордон так и остался бельмом на глазу сторонников сингулярности. Он выступил в Wall Street Journal с утверждением, что у беспилотных автомобилей сравнительно мало возможностей для повышения эффективности. Кроме того, по его мнению, они не окажут серьезного влияния на безопасность – количество жертв на милю пробега и так снизилось в 10 раз с 1950 г., что делает будущие улучшения менее значительными{68}. Он также скептически смотрит на возможность захвата производственного сектора и сектора услуг новым поколением мобильных роботов: «Отсутствие у роботов способности к перепрограммированию на другие задачи не беспокоит энтузиастов – просто подождите, и все образуется. Вскоре наши роботы научатся не только выигрывать в телевикторине „Своя игра“, они будут регистрировать багаж в аэропортах и заменят носильщиков. Однако все многообразие физических задач, которые под силу людям, вряд ли удастся переложить на роботов в ближайшие десятилетия. Конечно, многофункциональные роботы будут разрабатываться, но потребуется немало времени, прежде чем роботы выйдут за пределы производства и оптовой торговли и смогут заметно потеснить людей в сфере услуг и строительстве»{69}.
Его скептицизм вызвал поток критики, но он не отступил. Его ответ критикам фактически означает: «Не принимайте желаемое за действительное!» По мнению Гордона, лучше всех потенциальное воздействие начавшейся в 1960 г. «третьей промышленной революции» – компьютеризации и интернета – предвидел Норберт Винер, когда говорил, что автоматизация ради автоматизации будет иметь непредсказуемые и, вполне возможно, негативные последствия.
Споры о производительности продолжаются. Относительно недавно у технарей и экономистов стало модно утверждать, что традиционные показатели производительности больше не подходят для все более цифровой экономики со свободным распространением информации. Как измерить экономическую ценность ресурса вроде Википедии, спрашивают они. Если сторонники сингулярности правы, то трансформация в форме беспрецедентного экономического кризиса из-за отказа от живого труда наступит очень скоро. Результат действительно может оказаться довольно мрачным – для людей будет все меньше и меньше места в новой экономике.
В индустриальном мире такого еще не наблюдалось, но одним из любопытных сдвигов, указывающих на существование пределов автоматизации, стало недавнее решение компании Toyota о постепенном возврате людей в производственный процесс. В сфере массового производства Toyota давно является мировым лидером по применению средств автоматизации с ее корпоративной философией кайдзен (по-японски – «положительное изменение»), или непрерывного совершенствования. Достигнув почти полной автоматизации производства, компания поняла, что без людей заводы не могут улучшать себя. Некогда Toyota располагала штатом суперквалифицированных работников, известных как ками-сама, т. е. «боги», которые, по словам президента Toyota Акио Тоёды, могли создать все что угодно{70}. Эти работники имели также свойственную человеку способность подходить к делу творчески и, таким образом, улучшать производственный процесс. Так вот, чтобы вернуть гибкость и креативность на свои заводы, Toyota решила восстановить 100 производственных зон с активным участием людей.
Возвращение «богов» Toyota воскрешает в памяти введение Стюарта Бранда к изданному в 1968 г. «Каталогу всей Земли» (Whole Earth Catalog): «Мы подобны богам и тоже можем творить». Позже Бранд признал, что он позаимствовал эту идею у британского антрополога Эдмунда Лича, который писал также в 1968 г.: «Люди стали подобны богам. Пришло время осознать нашу божественность. Наука дает нам полный контроль над окружающей средой и судьбой, но, вместо того чтобы радоваться, мы боимся. С какой стати? Как избавиться от этих страхов?»{71}
В основе полных сарказма споров о производительности и решения компании Toyota об изменении баланса автоматики и живого труда лежит вопрос о природе взаимоотношений людей и умных машин. Сдвиг Toyota в сторону более конструктивных отношений между человеком и роботом может предполагать перенос акцента на технологии для расширения возможностей человека. Сторонники сингулярности, однако, настаивают на том, что такое партнерство человека и машины всего лишь промежуточная стадия, связанная с передачей человеческих знаний, в какой-то момент дойдет очередь до передачи креативности, а может быть, она возникнет сама собой в каком-нибудь поколении суперумных машин. Они указывают пусть на небольшие, но все же успехи в области обучения машин как на свидетельства того, что в не слишком отдаленном будущем компьютеры обретут способность к обучению, подобную человеческой. Например, в 2014 г. Google заплатила $650 млн за не имевший коммерческих продуктов небольшой стартап DeepMind Technologies, который разработал алгоритмы обучения машин, позволяющие им осваивать видеоигры в некоторых случаях лучше людей. После первых сообщений о приобретении поползли слухи, что из-за потенциальных последствий этой технологии Google создает «совет по этике» для оценки неожиданных «прорывов»{72}. Остается неясным, есть ли для такого надзора реальные основания, или это всего лишь рекламный трюк с целью раздуть шумиху и оправдать уплаченную цену.
Нельзя отрицать, что искусственный интеллект и алгоритмы обучения машин уже изменяют облик таких разных областей, как наука, производство и развлечения. Примеры варьируют от машинного зрения и распознавания образов, необходимых для улучшения качества полупроводниковых приборов, и так называемых алгоритмов рационального поиска лекарств, которые привносят системный подход в создание новых фармацевтических средств, до методов, используемых в сфере государственного надзора и в социальных сетях для обработки персональных данных. Оптимисты надеются, что потенциальные злоупотребления будут минимальными, если приложения останутся ориентированными на человека, а не на алгоритмы. На данный момент Кремниевая долина, увы, не может похвастаться моральным превосходством над старыми отраслями. Было бы поистине замечательно, если бы хоть одна компания Кремниевой долины реально отказалась от выгодной технологии по этическим соображениям.
Если оставить в стороне философскую дискуссию об обладающих самосознанием машинах и пессимизм Гордона относительно роста производительности, то на первый план выходит очевидная возможность и «рациональность» удаления людей из систем с целью повышения производительности и снижения затрат. В Google, которая может встать на сторону как искусственного интеллекта, так и усиления интеллекта, похоже, идет внутренняя борьба вокруг этой двойственности. Первоначальный алгоритм PageRank, на который полагалась компания, может рассматриваться как самый наглядный пример расширения возможностей человека. Алгоритм систематически выискивал решения людей о ценности информации, объединял их и сортировал для ранжирования результатов поиска в сети. Некоторые критикуют его как способ выкачивания интеллектуальной собственности у широкого круга ничего не подозревающих людей, однако понятно, что неписаный социальный договор между пользователем и компанией допускает это. Google выискивает богатства человеческих знаний и возвращает их обществу, хотя и с выгодой для себя. Окно поисковой системы Google стало самой грандиозной информационной монополией в мире.
Но потом Google стала метаться, хватаясь то за средства усиления интеллекта, то за средства искусственного интеллекта в зависимости от того, что больше подходит для решения текущей задачи. Так, система дополнения реальности Google Glass определенно несет потенциал того, что обещает ее название, – средства расширения возможностей человека, а беспилотный автомобиль Google имеет все признаки системы искусственного интеллекта, заменяющей человека. Компания Google фактически экспериментирует с социальными последствиями массового использования искусственного интеллекта. Выступая перед группой ученых из NASA в 2014 г., директор по исследованиям Google Питер Норвиг прямо заявил, что единственное разумное направление развития искусственного интеллекта – это создание систем, в которых люди являются партнерами обладающих интеллектом машин. Это было явное заявление о намерениях сблизить разъединенные сообщества искусственного интеллекта и усиления интеллекта.
С учетом сегодняшнего стремления к созданию автоматизированных предприятий подобное сближение представляется маловероятным. Вместе с тем страхи последнего времени относительно уничтожающих рабочие места промышленных роботов, возможно, в недалеком времени уступят место более сбалансированным представлениям о наших взаимоотношениях с машинами за пределами рабочего места. Взять хотя бы Терри Гоу, председателя совета директоров Foxconn, одной из самых больших китайских производственных компаний и изготовителя Apple iPhone. Компания уже пережила немало споров относительно условий труда на своих заводах, когда в начале 2012 г. Гоу заявил, что Foxconn планирует в значительной мере заменить рабочих роботами. «Поскольку люди тоже животные, управление миллионом животных вызывает у меня головную боль», – сказал он во время деловой встречи{73}.
Это заявление привлекло всеобщее внимание, но такое видение завода без рабочих – лишь одно проявление трансформации общества в следующем десятилетии под влиянием роботизации. Конечно, ликвидация рабочих мест воспринимается нами как черная сторона процесса, но в игру уже вступили другие силы, которые сделают наши взаимоотношения с роботами более позитивными. Технологическая безработица в Китае, например, может вызвать еще более драматичную дестабилизацию, чем в Соединенных Штатах. Поскольку в течение двух последних десятилетий в Китае шла индустриализация, значительная часть его сельского населения урбанизировалась. Как Китай адаптируется к безлюдному производству потребительской электроники?
Не исключено, что с легкостью. Население Китая стареет достаточно быстро, чтобы страна вскоре оказалась перед необходимостью автоматизировать производственные отрасли. Вследствие политики «одна семья – один ребенок» и решений, принятых правительством в конце 1970-х и начале 1980-х гг., в настоящее время быстро увеличивается доля пожилого населения. В 2050 г. в Китае будет самое большое в мире число людей старше 80 лет. Оно составит 90 млн человек по сравнению с 32 млн в США{74}.
Европа тоже быстро стареет. По данным Еврокомиссии, в 2050 г. в Европе будет приходиться всего двое людей трудоспособного возраста на каждого человека старше 65 лет, а число людей с возрастными заболеваниями достигнет 84 млн{75}. Европейский союз очень серьезно относится к демографическим изменениям и предсказывает появление рынка роботов для ухода за престарелыми объемом $17,8 млрд уже в 2016 г. Сценарий старения населения в США во многих отношениях сходен, но не так экстремален, как в Азии или Европе. Несмотря на то что Соединенные Штаты стареют медленнее (в определенной мере из-за постоянного притока иммигрантов), чем ряд других стран, «коэффициент демографической нагрузки» растет. Это означает, что количество детей и престарелых на сотню людей трудоспособного возраста, составлявшее 59 в 2005 г., поднимется до 72 в 2050 г.{76} Темп выхода на пенсию представителей поколения беби-бумеров в Соединенных Штатах – тех, кому исполняется 65 – достигает сейчас примерно 10 000 в день, и такой уровень сохранится в течение следующих 19 лет{77}.
Как промышленно развитые общества будут заботиться о стареющем населении? Старение мира кардинально изменит отношение к робототехнике в следующее десятилетие – на смену страхам, связанным с автоматизацией, придет надежда на расширение возможностей. Забавный, содержательный, а может быть, и пророческий фильм 2012 г. «Робот и Фрэнк» (Robot & Frank) о нашем недалеком будущем показывает взаимоотношения бывшего заключенного на первых стадиях старческой деменции и робота-опекуна. Будет иронией, если подобные роботы-опекуны появятся как раз тогда, когда придется ухаживать за ранее уволенным, а теперь состарившимся населением.
| <<< Назад Глава 2 Авария в пустыне |
Вперед >>> Глава 4 Взлет, падение и возрождение искусственного интеллекта |
- Предисловие
- Глава 1 Выбор направления – человек или машина
- Глава 2 Авария в пустыне
- Глава 3 Трудный год для человечества
- Глава 4 Взлет, падение и возрождение искусственного интеллекта
- Глава 5 Развитие идей
- Глава 6 Сотрудничество
- Глава 7 На помощь
- Глава 8 …и последнее
- Глава 9 Хозяева, слуги или партнеры?
- Благодарности
- Об авторе
- Сноски из книги
- Содержание книги
- Популярные страницы
- Неандертальцы: история несостоявшегося человечества
- Глава 11 Альтернативные человечества
- Леопард как сплотитель человечества
- На заре человечества
- Бактерии в истории человечества
- Немного политики, или Популяризация науки как средство выживания человечества
- Глава 1. История происхождения человечества
- Угроза из космоса. Метеориты в истории человечества
- Миф № 40 На территории России найдены очень древние памятники! Это русские! Не англичане же! Россия – колыбель человечес...
- Разные человечества
- Современные человечества
- Глава 7. Новые человечества