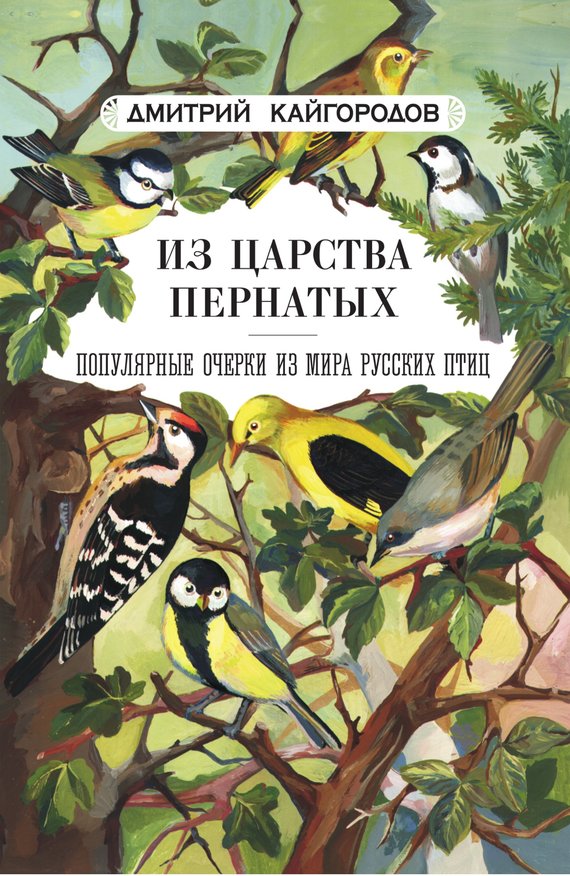Книга: Из царства пернатых. Популярные очерки из мира русских птиц
Соловей (рис. XIX)
| <<< Назад Каменный дрозд (рис. XXIV) |
Вперед >>> Малиновка (рис. X) |
Соловей[178]
(рис. XIX)
Маленькая, серенькая птичка с большими черными глазами. Великолепный, не имеющий себе равных певец. Любимец майской ночи, очаровывающий своими бесподобными песнями даже самые жесткие сердца и зачерствелые души. Художник-музыкант, вдохновитель поэтов и композиторов всех времен и народов.
Это удивительное Божье творение, это маленькое чудо пернатого царства, этот несравненный «певец любви» называется соловей.
Давно уже жаворонки разливают серебристые потоки своих песен над полями и нивами. Давно уже сады и рощи оживляются звонкими раскатами песен зябликов. Давно уже лес оглашается звучными строфами певчего дрозда, поющего под аккомпанемент целого хора разноголосых певунов, прилетевших в свите таинственной царицы – красавицы-весны. Но до сих пор все еще чего-то недоставало: не было главного «капельмейстера», не было самого «великого маэстро», с появлением лишь которого раздастся настоящий величественный и великолепный гимн богине-весне – гимн «торжествующей любви»…
И вот он явился – этот «великий маэстро»: явилась маленькая[179], серенькая птичка, с большими, умными черными глазами – явился соловей! Явился он, по обыкновению, ночью и тотчас же –
По народной примете, соловей начинает петь, «когда напьется воды с березового листка» (то есть когда у березы лист настолько развернется из почки, что на нем может уместиться капля росы), и примета эта совершенно верная. У нас, под Петроградом, время это приходится на заурядную весну на первые дни мая. Сначала прилетают самцы, а спустя дней пять-шесть и самочки. В первое время по прилете соловьи поют преимущественно по ночам, днем же лишь изредка насвистывают небольшие фрагменты из своих песен. Не будучи вовсе ночной птицей, соловей превращается на это время в ночного певца, для того чтобы песней своей извещать и приманивать летающих по ночам самочек (во время весеннего прилета и осеннего отлета соловьи летят только по ночам). Когда же начнется витье гнезд, тогда песни поются больше днем, а также в утренние и вечерние зори. Впрочем, некоторые соловьи так и остаются преимущественно ночными певцами, и это большей частью бывают лучшие мастера пения.
Самый разгар соловьиного пения приходится на время витья гнезд и кладки яиц. Время это совпадает у нас с цветением ландыша и сирени. С отцветанием сирени ослабевает и соловьиная песня, а к 15 июня и вовсе умолкает. «Певец любви» замолк, и мы не услышим его более – до следующей весны!
Любимыми местами пребывания соловьев являются поросшие ивовыми и другими кустами долины рек, полевые болота и вообще всякого рода кустарники вблизи проточной или даже стоячей воды, а также большие сады и парки. Только в этих последних, для того чтобы в них держались соловьи, должны быть глухие, запущенные и поросшие кустами (в особенности крыжовником и смородиной) уголки, в которых не убирается опавшая прошлогодняя листва: под прикрытием кустов соловей безопасно будет вить свое гнездо на земле или невысоко над нею, в прошлогодней же листве будет копошиться, разыскивая в ней, подобно дроздам, свой корм, состоящий из различного рода червей, гусениц, личинок, небольших жучков и других насекомых. Осенью соловьи охотно едят также и разные ягоды, в особенности бузину.
По земле соловей прыгает на манер дрозда – большими, смелыми скачками. При этом после каждых трех-четырех прыжков останавливается и, грациозно выпрямившись и вздернув свой довольно длинный хвостик высоко над крыльями, оглядывается вокруг – так, как это делают дрозды, которым соловей приходится весьма близким родственником.
Во время пения соловей сидит большей частью невысоко, всегда насупившись, как бы сгорбившись, свесив крылышки, и позволяет обыкновенно близко подойти к себе. Вообще соловей – птица доверчивая и не строгая, а потому легко идет во всякие западни и ловушки.
Гнездо соловья не представляет собой особенно искусной постройки. Снаружи оно состоит обыкновенно из сухих прошлогодних листьев, внутри же – из тонких, сухих травок и былиночек. Самочка кладет в него пять-шесть одноцветных серовато-зеленых яичек. Высиживание продолжается 14–15 дней; птенчики выкармливаются гусеницами, личинками и червячками. В конце июня молодые соловушки вылетают из гнезда – в сероватом оперении, с бурыми крапинками; взрослые же вскоре после этого начинают линять. Соловей делает только один вывод в лето; ко второму он приступает только в том случае, если первый был кем-нибудь разорен.
В конце августа соловьи отлетают на юг. Сначала все собираются, перелетают по кустам один к другому, как бы переговариваясь тихим «так-так», потом вдруг оставляют местность своего обитания. Трогаются в путь всегда вечером, когда стемнеет, и летят небольшими стайками – в два-три семейства. Улетают они далеко – в тропические страны. Летом соловей водится, за исключением Крайнего Севера, по всей России, повсюду, где только есть подходящие для него места. Он гнездится также в Крыму и на Кавказе.
Нужно заметить, что среди соловьев рядом с первоклассными певунами бывают и весьма посредственные. Плохие певуны – это большей частью соловьи молодые, еще не успевшие перенять у взрослых их мастерство. Также и по местностям есть различия в пении этих птиц: в одних местах держатся одни хорошие певцы (конечно, не считая начинающих молодых), в других же – знаток соловьиного пения забракует всех поющих соловьев. Выражаясь словами птичника: «Иной дельно поет, с толком, и колена хороши, и склад есть, а иного и слушать досадно: огородник – кричит зря. Ни складу, ни ладу, только мешает хорошего слушать. Рад его палкой убить…»[181]. По мнению птичников, превосходные певцы водятся именно в тех местностях, где птица держится свободно в большом количестве, не пугана, не вылавливается, потому что один хороший соловей нескольких «ставит на хорошую песню». Лет 30–40 тому назад особенно славились курские соловьи, за которых любители плачивали до 2000 рублей за штуку! В настоящее время предпочитаются соловьи киевские: 100–200 рублей за хорошего певца – и в нынешнее время не редкость. А какие бывают любители и знатоки соловьев, можно видеть из следующего рассказа[182].
«В пору прилета приводилось нам крыть соловьев. Чудесная это охота. В то время, когда полезет молодая травка и забуреют зеленью деревья, сердце так и колотит в грудь. Какое-то особенное, отрадно-тревожное чувство охватывает тебя всего; сила этакая овладевает и управляет тобой, как хочет. О чем ты ни думай, как ни развлекайся, а все стоишь на одном: если такая погода продлится еще неделю, соловьи должны прилететь. И пойдешь лучки прилаживать. Не порвалась ли сеть, крепки ли петли, не перетерлась ли веревка. Все хорошо, все задолго осмотрено и улажено. Нет – тебе не терпится. Двадцать раз возьмешь, повертишь, прикинешь на полу, покроешь – и как бы успокоишься. Подойдешь к окну, взглянешь на деревья в соседнем саду, на кустарник, и сам себе говоришь: дня через два, через три должны соловьи прилететь. Тепло, так и парит; почка расхохлатилась; кустарник покрывается мелким листом. Ночью не спится, ворочаешься, припоминаешь места; думаешь: покроют, мошенники, – потому место такое, кто его обойдет. Особенно рыжий – вычистит, ни одного пера не оставит. И решишь: завтра пойду посидеть с вечера, должны прилететь. Таким образом, передумаешь несколько раз одно и то же – и соберешься… Помнится, в барском лесу крыл я соловьев. Пришел ночью: темно, зги не видно; место было замечено. По дороге кое-как прошел, а как своротил в сторону, к осиннику, – саженях в трех от дороги нужно сесть, – все лицо изодрал сучьями. Ночь была теплая, тихая. Не шелохнет нигде; только сучья щелкают по лесу в разных местах. Изредка что-то шарахалось, да вдали камышевка всю ночь пела. Потом варакушки послышались с болота и разные голоса; этак перекличкою, то тут, то там. К утру, чуть только забрезжилось, невдалеке слышу дрозд (певчий) начал: тихо этак свист дал и запел – едва разобрать можно. Потом, словно словами, закричал сильно: „Приди-кум, приди-кум”, – так и выговаривает: раза три повторил это; да еще: „Деньги – есть! Деньги – есть! Выпьем, выпьем”, – скажет потом с хрипощей этак перещелкнет да как „филюлюкнет“ по лесу-то – ну, просто целовать надо птицу. Тут, слышу, сзади „фррру“, и полевее „фррру, фю-ить“, и подальше „фю-ить, тио, тио, тио, тио, тио“. Здорово сделал: кажется, каждое слово-то у него в землю уходит на три аршина. Потом, как шаркнет дробями – так это по лесу-то заговорило, Господи Боже мой! Потом как пульканье сделал, фу-ты! Отчетливость какая. И что он тут делал – уму помрачение. Двенадцать колен у него было, и одно к одному, ни одной помарки. Песня была высокая, не было у него этой бабьей томности, а сила и торжественность этакая: ниц упадешь перед ним. Ахнул он, помнится, раскатом, так лес-то, кажется, дрогнул от этой силы. Начал обыкновенно, потом выше и так просыпал, что себе не веришь, птица ли это делает? И тут же, раскат еще не стих по лесу, длинной пустил стукотней, потом сдвоил этак раза четыре свистом и сильно сделал „га-га-га-га-га”… Этакий чудный был соловей…»
А вот как этот соловей был пойман рассказчиком:
«На краю леса шла ровная, узкая дорога, по линии которой, редко один от другого, стояли большие дубы, а с другой стороны ровно длинной полосой стоял орешник. Тут в одном месте возле него стояли четыре небольшие, в руку толщиной, осинки. На одной из них, как сейчас гляжу, кривая этакая, поменьше всех, и держался соловей. Бывало, постоянно на ней, на верхнем сучке сидит и тарарахает на весь лес. И часто поет-поет – смолкнет, вскинет несколько раз хвостом и сразу пульк вниз, в орешник. Вот это самое место и было мною замечено, тут я и сидел шагах в десяти от него: в поросли у пня был у меня шалашик забран. Сижу в ту пору здесь утром, слушаю, а самого так и бьет, рук не могу удержать, трясусь. Гляжу по осинам-то – весь на глазах, на той же самой сидит стройно, крылья этак опустил и сильно делает отличное колено желной, потом как пустит этаким глухим свистом, так точно меня снизу кто-то шилом ткнул: вскочил с места-то, шагов пять отбежал и встал как каменный. Опомнился, когда он увидал меня и перелетел. И тут скорее бы уже лучок ставить, а я – то к шалашу сунусь, то к соловью, бегаю, как дурак, и не знаю, за что взяться. Насилу опомнился, схватил лучок, подбежал; туда-сюда глазами-то, смотрю – шагах в пяти от меня такает в орешнике; поскорее поставил лучок, пустил подвязного[183], отбежал за куст, да самочкой ему – фить-фить! Смотрю – перелетает, подобрался этак, хвостом помахивает да такает. А я ему опять – фить: как сделаю, так он ближе. Вижу, шагах в двух сел от лучка, увидел подвязного и раз к нему. Я хлоп! Вскочил: тут, бьется под сеткой… Бегу к нему да крещусь – дельно уж очень покрыл. Вынимаю его из-под сетки, а руки так и скачут; крылья бы связать – не могу, колотит лихорадка всего, да и шабаш: раззарился очень. Посадил в кутейку, снял лучки и не завязал ничто, марш домой. С версту этак прошел, хвать – ца где же у меня картуз-то? В лесу оставил. Ну, да, мол, завтра схожу, где-нибудь там.
Четыре года жил у меня этот соловей, и забыть я его не могу. Бывало, запоет – по всей улице соседи окна отворяют. И что ни возьми у него, любое колено чисто, отчетливо, и вся песня истинно нотная; постановка колен, стройность – редкая. Конечно, как на кого: иной ценит нежность, а иной силу и чистоту. В том и другом случае главное дело – склад песни. Хороший соловей поет с толком, у него песня, помимо достоинства колен, имеет склад. После сильного колена поставит легкое, нежное, потом пойдет переставлять колена в средних нотах, примерно клыканье, дудки, свисты и прочее, потом двумя коленами повысит, шаркнет – и опять умилит до слез. Чем полнее песня, тем лучше; только редкий многоколенный соловей без помарки – мажет, что называется: ставит в песне пискливо-скрипящие колена. В коленах ценятся чистота исполнения и нежность, в песне – полнота и склад».
Я позволил себе сделать эту большую выписку ввиду того, что, во-первых, этот безыскусственный рассказ – в своем роде художественный перл. Во-вторых, мне хотелось познакомить читателя со столь характерным и образным языком птицеловов и дать понятие о том, до какого самозабвения может доходить у любителя страсть к хорошо поющей птице. Наконец, в-третьих, прочтя внимательно характеристику мастерского соловьиного пения и познакомившись с теми требованиями, которые ставятся знатоком-любителем хорошему соловью, читателю будет легче оценить пение того или другого соловья, что представляет большой интерес и доставляет много удовольствия. Можно слушать соловья просто так, чтобы только слушать, и совсем другое дело вникать в его песню и уметь относиться к ней сознательно-критически.
В сочинениях некоторых немецких птицеводов встречаются попытки изобразить словами песни соловьев, особенно мастерски певших. Конечно, эти жалкие звукоподражания, изображенные буквами, ничего не говорят для человека непосвященного, но для любителя-знатока соловьиного пения они являются весьма интересными и понятными, и он легко восстанавливает по ним, как музыкант по нотам, те звуки, которые имел в виду изобразить записывающий песню. Для того чтобы дать понятие о такого рода записях, я приведу здесь записанную мной песню одного прекрасного соловья, гнездившегося весной 1880 года в парке Лесного института.
Фи-тчуррр, фи-тчуррр, вад-вад-вад-вад-вад-ции! (очень эффектно и редко).
Тю-лит, тю-лит, тю-лит.
Клю-клю-клю-клю.
Юу-лит, юу-лит (затем то же три раза, с повышением на несколько тонов).
Ци-фи, ци-фи, ци-фи.
Пью, пью, пью.
Ци-фи, ци-фи, чо-чо-чочочочочочочочовит!
Цицитювит, тю-вит, тю-вит (последние два могучим посвистом).
Юу-лит, чочочочотрррррррц (в конце «помарка»).
Пи, пи, пи, пи, клю-клю-клю (превосходно!).
Чричи-чу, чричи-чу, чричи-чу.
Ци-вит (тихо), клюй (громко), клюй (очень громко).
После этих 12 колен песня повторялась, причем колена нередко исполнялись в ином порядке.
В заключение несколько слов о том, как нужно обращаться с соловьем в неволе. Только что пойманному соловью нужно тотчас же связать крылышки, посадить его в клетку, обтянутую какой-нибудь тканью (лучше всего редким, «посылочным» холстом), и поместить в тихий уголок, чтобы птица не пугалась, иначе она может забиться до смерти. Через час или более, когда птица несколько оглядится и проголодается, станет прыгать по клетке, дать ей немного свежих муравьиных яиц. Когда съест первую порцию, значит, дело ладно – будет жить. Затем следует дать вторую и третью порции. На другой день повесить клетку на потолке, подальше от окна (чтобы не дуло), и давать корм аккуратно два раза в день – утром и часа в 3–4 пополудни, так же и в следующие дни. Дня через два-три соловей (весеннего лова) обыкновенно уже начинает запевать. Когда совсем обсидится и привыкнет к хозяину, крылья нужно развязать и клетку с одной стороны открыть до половины. Кормить свежими муравьиными яйцами, пока можно доставать, а затем сухими, обваренными предварительно кипятком и отжатыми и смешанными с тертой свежей морковью и толченым сухим белым хлебом. Хорошо подмешивать время от времени мелко нарубленное вареное мясо, тараканов и червячков, в особенности во время линяния. Питейка должна быть просторная, чтобы птица могла купаться. При хорошем уходе соловей может держаться лет пять-шесть и даже более. Запевать начинает в клетке нередко уже к Рождеству, постепенно пополняет песню до весны; с апреля до половины июня поет в полной силе и красоте, потом начинает убавлять понемногу и сокращать – до линьки, когда замолкает до декабря.
В юго-западной России, рядом с нашим обыкновенным соловьем, водится и другой, так называемый западный соловей[184] или австрийский (у птичников) (рис. XIX). Наш соловей доходит только до восточной части Германии, далее же к западу, во всей остальной Европе, водится только западный соловей. Отличается этот последний от восточного соловья несколько меньшей величиной[185] и немного по окраске[186]. В песне эти два соловья разнятся весьма значительно: песня обыкновенного (восточного) соловья отличается большей мощностью, торжественностью, звучностью, она более членораздельна, и колена в ней более разграничены; она поется строфами и приближается в этом отношении к характеру песни певчего дрозда. В песне же западного соловья более нежности, закругленности, слитности, а меньше звучности и силы. Мне приводилось слушать пение западного соловья в Германии, во Франции и в Крыму (в долине Бельбека, близ Севастополя). Признаться, после могучих, величественных посвистов нашего (восточного) соловья мне показался очень слабеньким столь воспеваемый немецкими поэтами Nachtigal (а французами – Rossignol). Впрочем, может быть, я встречал не особенно хороших певцов.
На Кавказе кроме восточного соловья водится еще персидский соловей, или соловей Гафиза[187] (названный так нашим известным ученым Северцевым, вероятно, в честь знаменитого персидского поэта Гафиза, столь прекрасно воспевавшего в своих стихотворениях «царя певцов» – соловья и его любовь к «царице цветов» – розе). Персидский соловей по окраске и нежности пения ближе стоит к западному соловью, чем к восточному. Говорят, в его песне вовсе нет сухих, трескучих колен, так часто встречающихся в песнях наших соловьев, но в то же время песня эта значительно беднее содержанием и однообразнее, чем песня нашего соловья.
Образ жизни обоих этих соловьев почти ничем не отличается от образа жизни нашего, восточного, соловья.
| <<< Назад Каменный дрозд (рис. XXIV) |
Вперед >>> Малиновка (рис. X) |
- От автора к первому изданию
- Кукушка (рис. I)
- Дятел
- Вертишейка
- Синица
- Королек (рис. Ill)
- Пищуха (рис. II)
- Поползень (рис. Ill)
- Клест
- Снегирь (рис. V)
- Щур (рис. VI)
- Чечевица (рис. VI)
- Зяблик (рис. VII)
- Щегол (рис. VIII)
- Чиж (рис. VIII)
- Чечетка (рис. VII)
- Коноплянка (рис. VI)
- Зеленушка (рис. XVII)
- Дубонос (рис. IX)
- Воробей
- Овсянка (рис. VII)
- Полевой жаворонок
- Лесной конек (рис. XVIII)
- Иволга (рис. I)
- Оляпка (рис. XXIII)
- Крапивник (рис. XVII)
- Дрозд
- Соловей (рис. XIX)
- Малиновка (рис. X)
- Горихвостка (рис. XIV)
- Варакушка (рис. XV)
- Каменка
- Завирушка (рис. XV)
- Пеночка (рис. XX)
- Ласточка
- Стриж
- Козодой (рис. XVI)
- Мухоловка-пеструшка
- Сорокопут
- Свиристель (рис. VI)
- Скворец
- Сойка (рис. XII)
- Удод
- Зимородок
- Сизоворонка (рис. XVI)
- Золотистая щурка (рис. XXIV)
- Вальдшнеп (рис. XV)
- Вклейка
- Сноски из книги
- Содержание книги
- Популярные страницы
- Малиновка (рис. X)
- Каменный дрозд (рис. XXIV)
- Желтая трясогузка (рис. XI)
- 4. XIX век: сознание и мозг
- Миф № 34 Как вообще можно исследовать далекое прошлое? Разве кто-нибудь жил миллион лет назад и видел, что тогда происхо...
- Идеология и наука XIX века – основы современного знания
- ФОТОНЫ И СВЕТ
- От автора к первому изданию