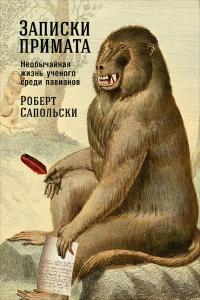Книга: Записки примата: Необычайная жизнь ученого среди павианов
29. Мор
| <<< Назад 28. Последние воины |
Вперед >>> Сноски из книги |
29. Мор
В один из приездов я решил на некоторое время отвлечься от павианов и повидаться с исследователями их других кенийских заповедников. Я навещал и сотрудников, работающих с павианами, и изучающих экологию, и занимающихся слонами. О слонах я знаю очень мало, но трогательны они невероятно, как и привязанность к ним элефантологов. Эти ученые одержимы своими животными не меньше, чем приматологи, и это вполне объяснимо: достаточно посмотреть на слонов — огромные и умные, они живут три четверти века, а все их дни заполнены непростыми семейными делами и заботой друг о друге. Я приехал к элефантологам в разгар недели, когда у них случилась беда, которая у любого полевого биолога наверняка вызовет горячее сочувствие. Пропала самая любимая слониха — наиболее изученная в стаде, одна из родоначальниц, мать беспомощного семимесячного детеныша. Целые дни они проводили в поисках и очень волновались за испуганного и слабеющего слоненка. Мы все тревожились и воображали самое худшее.
Спустя несколько дней мы стояли над ее телом. Найти ее оказалось не так сложно, она погибла в двух-трех сотнях метров от мусорной свалки у главной туристской гостиницы. Она успела съесть изрядное количество отходов — остатки овощей и фруктов, особенно крахмалосодержащих как самых аппетитных, — отошла от свалки и упала замертво. К нашему приходу падальщики уже успели привести ее тело в знакомое элефантологам состояние зияющих останков: череп заметно возвышается над остальным, большинство самых лакомых органов выгрызены. Желудок слонихи и кишечник были порваны, содержимое разбросано на несколько метров вокруг верхней части туши: охапки листьев и травы, уже почти превратившиеся в слоновий помет, верхушка ананаса с листьями — без сомнения, любезно предоставленная гостиничной свалкой. И здесь же причина гибели: осколки стекла, разбитая бутылка кока-колы, бутылочные горлышки, куски металла — тоже любезно предоставленные гостиничной свалкой. Элефантологи к тому времени уже который месяц упрашивали владельцев гостиницы обнести свалку забором, даже помогли соорудить ограждение (которое никто из персонала не заботился запирать), обращались к управляющему. Когда я уезжал, судьба слоненка еще была неясна.
Не стану называть имена тех ученых и не уверен, что обнародование названия гостиницы и имени ее мерзавца-хозяина повлияет на его будущее поведение. Самим элефантологам предстоит избрать стратегию, чтобы избежать повторения таких трагедий. Однако я решил, что настало время рассказать о том, как закончилась жизнь моих павианов. На протяжении этой книги я старался придать литературную форму рассказам, прибегал к писательским приемам. Здесь я не буду даже пытаться. События развивались бессистемно и хаотично. Были злодеи, но недостаточно очевидные. Не было финального поединка. Не было упорядоченного и стройного хода событий. И рассказ об этом тоже не будет отличаться стройностью.
В тот год я по большей части работал один: у Лизы накопились профессиональные дела, и она осталась в Штатах, у Ричарда дома вся семья не вылезала из болезней, Хадсон по-прежнему работал с другими павианами на противоположном конце страны. Соирова, Лоуренс Гиенский, Рода и Самуэлли временами меня навещали, но в основном я целые дни проводил в одиночку.
Туристическую гостиницу в Олемелепо за прошедшие годы я приучился обходить стороной. Ричард жил не в ней — он облюбовал небольшой палаточный лагерь километрах в пяти, в излучине реки. Гостиница в Олемелепо, одна из крупнейших в заповеднике, походила на город: огромный и беспорядочный. Она вмещала сотни туристов и втрое больше прочего люда — работники, их супруги, дети, учителя детей, няни, начальство, охранники, проститутки, чьи-то бесчисленные кузены и племянники, толпящиеся тут же в надежде получить работу. В мой первый сезон, в 1978 году, я с удовольствием проводил здесь время. Сюда мне присылали почту, и я прикипел к этому месту. Здесь можно было бесцельно болтаться уйму времени в надежде (ни разу не оправдавшейся) напроситься к какой-нибудь группе туристов на дармовой обед. Когда-то мне льстила вздорная перспектива перезнакомиться со всей обслугой, стать завсегдатаем, без церемоний заглядывать на чай к кому-нибудь домой. С годами — когда я и вправду стал завсегдатаем — притягательность этой идеи для меня поблекла. Теперь стоило мне там появиться, как меня обступал народ: один хочет денег взаймы, другой допытывается насчет стереомагнитофона, который в прошлом году просил привезти из Штатов, кто-то требует немедленно доставить его за шестьдесят километров в деревню на какую-то церемонию, кто-то нацелился купить мои часы и джинсы сию же минуту. Просят уроки вождения, работу для младших братьев, стипендии на обучение в моем университете. Вполне понятные просьбы, особенно при общем экономическом упадке, однако свою притягательность для меня гостиница утратила, я старался ее избегать.
В тот год я не появлялся здесь довольно долго. Через некоторое время пилот воздушного шара, обслуживающего туристов, вскользь упомянул о больном павиане, которого он видел у себя на заднем дворе. У меня были другие дела, мне не очень хотелось болтаться в Олемелепо, выслеживая больного павиана, к тому же я предположил, что на самом деле это была зебра, и ее чихание там слышали как-то вечером. Однако, когда пилот напомнил о павиане в третий раз за неделю и даже специально для этого остановил мою машину посреди дороги, я все-таки решил проверить.
В тот же день пилот привел меня на свой задний двор. Павиан не выходил оттуда уже несколько дней и прятался между задней стеной дома и какими-то дизельными бочками, постоянно кашляя. Я покружил у обоих концов прохода, образованного бочками, ничего не увидел, лишь расслышал периодический кашель, сухой и слабый. В конце концов, я протиснулся между бочками и оказался в нескольких шагах от самки павиана.
Она принадлежала к стаду, которое соседствовало с моим и жило на территории, окружающей гостиницу. Нескольких животных оттуда я знал, но эту обезьяну идентифицировать не смог: даже будь я прекрасно знаком со всем стадом, узнать ее было бы невозможно, слишком уж она изменилась. Одни кости почти без мышц, обширные очаги облысения, по всему телу крупные участки кожи поражены некрозом. Огромные горящие глаза. Мы смотрели друг на друга вблизи, и я понял, что она безумна. Уставленный на меня взгляд, казавшийся расфокусированным, время от времени прояснялся, словно обезьяна вдруг замечала меня в первый раз. В такие мгновения она слегка напрягалась и испуганно откидывала голову; на большее она вряд ли была способна. Потом она начинала кашлять, и взгляд вновь становился расфокусированным.
Я решил обездвижить ее стандартной инъекцией: если животное хорошенько осмотреть, то я — при моих самых зачаточных познаниях в этой области — возможно, смогу хоть как-то определить болезнь. А если взять образцы крови, слюны и слизи, то можно их законсервировать и потом показать ветеринарам, знающим диких животных и способным разобраться.
Вводить анестетик я собирался вручную шприцем: метать дротики из духовой трубки не позволяла теснота. Однако обезьяна была настороже и успевала отпрянуть. Некоторое время мы так и ходили друг за другом: она — усиленно меня избегая, я — усиленно пытаясь всадить в нее шприц. Подозреваю, что на самом деле я старался вытеснить ее из-за бочек на открытое место, где можно стрелять дротиком из трубки: я не на шутку опасался, что она меня укусит и я сам к утру превращусь в безумца с некрозом кожи. Я успел заметить, что при кашле у нее отхаркивается кровавая пена.
Наконец самка выбралась на открытое пространство, я приготовил духовую трубку. На зрелище успела во множестве собраться гостиничная обслуга — меня это никак не радовало, поскольку глазеющая толпа достигла того возбуждения, когда с готовностью ринулась бы затаптывать либо меня, либо обезьяну. К тому же болезнь могла оказаться заразной.
Я выстрелил дротиком с небольшого расстояния, под тусклым взглядом ее остекленелых глаз. Она отошла на несколько шагов; я заметил, что кисть одной руки у нее тоже поражена некрозом. Упала она резко и беззвучно. Я достал лабораторный костюм, маску и перчатки. Пульс и дыхание были крайне слабыми, температура 40,5. Пока я готовил пробирку для образца крови, обезьяна умерла.
Я решил, что благоразумнее это не афишировать. Я накрыл животное мешковиной «для тепла», объявил всем, что забираю его к себе в лагерь на обследование, и поспешил унести ноги.
В лагере меня ждал Лоуренс Гиенский, который тут же подключился к планировавшемуся вскрытию. Признаюсь: мы радовались такой возможности и предвкушали его. Конечно, я вполне способен испытывать отвращение к смерти, но для биолога определенного типа чаще всего за ней следует увлекательное занятие. Удалить кожу, анатомировать тело, изучить работу мускулатуры; выскоблить череп и выставить на обозрение, собрать скелет; оттренировать на мертвом теле хирургические навыки до автоматизма. А на этот раз было даже интереснее: перед нами была загадка, и нам предстояло не просто анатомировать тело, но и попытаться решить научную головоломку.
Мы решили действовать тщательно, как подобает людям науки, и определили правила. Мы располагали некоторым количеством медицинских справочников, которыми постоянно пользовались при попытках выяснить причину очередной нетипичной лихорадки или расстройства желудка. Однако на этот раз мы постановили не заглядывать в книги, а сначала полностью закончить анатомирование, записать факты и выдвинуть все возможные гипотезы, чтобы наблюдать непредвзято и не подгонять наблюдения под вычитанный в справочнике диагноз.
Мы вскрыли брюшину моим складным швейцарским ножом за неимением более пригодного инструмента. Вся брюшная полость была заполнена мерзкой жидкостью — делайте что хотите, я не патологоанатом, она попросту была мерзкой. Мы начали вскрывать органы. Обычно это одно из самых тяжелых испытаний для обоняния. Кишечник, естественно, пахнет калом, и запах стоит настолько сильный и вязкий, что под конец кажется, будто дерьмо повисает даже на глазных веках. Однако самое удивительное всегда — желудок, который неизменно пахнет овощным салатом: ароматная смесь листьев, травы и фруктов сдобрена желудочной кислотой ровно до такой степени, чтобы дать отдаленный эффект уксусной заправки для салата.
Впрочем, желудок относительно приятно пахнет только в стандартных случаях, на этот раз ни желудок, ни кишечник ничем не пахли. Самка ничего не ела несколько дней.
Мы везде находили мелкие темные узелки: в кишечнике, в желудке, в печени, а поджелудочной железе. Мы прорезали брюшину дальше до паха — узелки были и там, на лимфатических узлах. Твердые, тугие. По обыкновению патологоанатомов, имеющих извращенную привычку описывать самые отвратительные вещи пищевыми сравнениями, мы решили, что узелки похожи на арбузные косточки. «Может, она переела арбузных косточек», — мрачно предположили мы. Дальше в том же духе: «Ах, арбузные косточки даже на лимфатических узлах. Как же они туда попали, герр профессор?» — «Значит, то были эктопические арбузные косточки». (Слово «эктопический» используется для описания того, что находится не на своем месте. Если у вас на лбу вырастет шесть пальцев, то знаток, который будет описывать их первым, может назвать это эктопическим полидактилизмом или как-то в этом роде.) «Однако же, досточтимый коллега, — продолжали мы, — откуда взялись эти косточки, если арбузы здесь не растут?» — «Ах, пустяки, по моему диагнозу пациентка страдает от идиопатических эктопических арбузных косточек» (то есть от арбузных косточек, оказавшихся не на своем месте по непонятным причинам) — выяснения окончены, дело закрыто. Так мы развлекались.
Несколько узелков мы вскрыли. Внутри они были зернистые, рыхлые и более светлого оттенка. Мы тщательно все записали, но никаких умных выводов придумать не могли. Я начал все зарисовывать: узелки в кишечнике и желудке, бисерные блестки на вуали соединительной ткани. Поковыряв тем же швейцарским ножом позвоночник, мы умудрились вырезать два позвонка. Узелки обнаружились и на спинном мозге: заражена центральная нервная система. Нам стало самую малость не по себе. Мы надели по второй паре перчаток и заметили, что под маской как-то слишком уж жарко — еще бы, препарировать обезьяну на солнцепеке. От тела начало попахивать, особенно от руки, пораженной некрозом.
Мы начали вскрывать грудную клетку. Прорезали кожу, пропилили ребра чем-то из Лоуренсова арсенала автомобильных инструментов. Обычно при рассечении диафрагмы вся грудная клетка попросту раскрывается как по волшебству, и перед глазами предстает роскошная пара легких и под ними сердце. Мы прорезали диафрагму по положенным линиям — грудная клетка не сдвинулась с места. Мы тянули ее по всем возможным направлениями, пока не увидели, что легкие полностью приклеены ко всему: к диафрагме, ребрам, сердцу. Картина была явно ненормальной. Мы дернули грудную клетку, слегка подрезали снизу, дернули еще, и внезапно она отошла вместе с прилипшим к ней легким.
Мы отскочили назад. Ужасу не было предела. Во все стороны хлынула жидкость — густая, молочная, зловонная, волокнистая, комковатая, с кусками тканей. Если оказаться в аду, захотеть пить и заказать молочно-содовый коктейль с кровью и вишенками, то именно такое вам и подадут. Потом до нас дошло: это не просто какая-то жидкость вытекает из легких. Это вытекают сами легкие: нижние доли попросту растаяли, превратились в жидкость.
Всю браваду как рукой сняло. Некоторое время мы собирались с духом — нам еще предстояло исследовать остатки легких. Узелки обнаружились повсюду: на стенке грудной клетки, на трахее, на трахеобронхиальных лимфатических узлах. Но сами легкие… Узелки, да. И еще комки, кровоизлияния, повсюду следы эксплозии крови и гноя, местами имплозии, и опять вытекшие легкие. Немного погодя мы их тронули. Легкие были твердыми, как кость. Может, даже не как кость. Они имели что-то вроде хрящевой суперструктуры с каменно-твердыми «карманами», остальные фрагменты походили на твердую яичную скорлупу, которая лопалась, выпуская очередную порцию легкого. Все было до безумия ненормальным — таким же ненормальным, как если бы вам пришлось есть йогурт, периодически вытаскивая из него кости. Мы принялись тщательно анатомировать, вскрывать, прощупывать и скоблить. Находили сгустки хрящеобразной ткани, которые ничто ни с чем не соединяли. Фрагменты белые, черные, кроваво-красные после кровоизлияний, яркие желто-зеленые. Твердые сферы, из которых при раскрытии вытекала густая желтая жидкость, оставлявшая после себя мелкие мягкие ядрышки коагулированной крови с серой зернистой сердцевиной. И тут же сферы с обратным порядком слоев. Оставшееся легкое срослось со всеми окружающими тканями, доли уже не распознавались. В трахее — зияющие отверстия, в нижней части — пробка из крови, мокроты и рвотных масс. Сплошной хаос, разобраться в этом было невозможно — мы записывали и зарисовывали, совершенно не понимая, что делаем. Наконец мы решили, что дело закончено, и похоронили самку на дальнем конце поля. Лабораторные костюмы развесили на дереве, нож оставили на изгибе ветки того же дерева, подальше от лагеря.
Слово «туберкулез» первым пробормотал Лоуренс: помывшись после вскрытия, мы сразу же засели за справочники, и описание последней стадии туберкулеза подошло идеально. Любой, кто работает с содержащимися в неволе приматами, боится туберкулеза как огня. В большинство приматологических центров нельзя даже ступить без анализов на туберкулез — так опасаются здесь туберкулезных вспышек. Болезнь мгновенно разносится от клетки к клетке, из одного помещения в другое, уничтожает целые колонии. Развивается она не так, как у людей — у Томаса Манна в «Волшебной горе» Ганс Касторп симулирует болезнь несколько лет, не уставая разражаться зубодробительными философскими монологами. В приматологических лабораториях туберкулез развивается стремительно. Я понятия не имел, протекает ли он так же стремительно среди диких приматов. Началом ответа на этот вопрос стал момент, когда местный охранник несколько дней спустя остановил меня на дороге и сказал, что в гостинице Олемелепо видели больного павиана.
Второй случай по большей части походил на первый. На этот раз заболел зрелый самец из того же стада. Усыпление дротиком он перенес благополучно, и я, почти не раздумывая, ввел ему дополнительную дозу и сделал полевое вскрытие. На этот раз обнаружилось больше узелков в пищеварительном тракте и в печени и, возможно, чуть меньше разложения в легких.
Третий случай подоспел несколькими днями позже — безумная, с воплями и кашлем самка павиана за водонасосной станцией гостиницы. Симптомы были хуже прежних: выгнутая горбом спина, кисти рук настолько некрозные и сгнившие, что, пытаясь от меня убежать, она опиралась на локти. Очевидно, спина выгибается в попытке добавить объема легким, а руки сгнивают оттого, что при дисфункции легких и сбое кислородного обмена нарушается приток кислорода к периферийным тканям. Самка умерла через минуту после усыпления дротиком, через час в углу моего поля ее легкие растекались на глазах. В ту ночь у меня впервые случился кошмар — мне снилось, что я не могу дышать.
Все эти павианы были из стада при гостинице Олемелепо. Они жили в одном лесу с моим стадом и по утрам расходились в разные стороны: олемелепское стадо добывало пищу в окрестностях гостиницы. Именно это стадо вытеснило моих павианов из леса в смутное время. С ростом Олемелепо в гостинице появлялось все больше отбросов, их вываливали без лишних церемоний, и вскоре гостиничное стадо питалось исключительно отходами. Немного погодя павианы перебрались спать на деревья, растущие прямо над свалкой, и проводили целые дни за поеданием отбросов. Поведение животных совершенно изменилось, необходимость добывать пищу ушла в прошлое, так что я, преисполненный отвращения, умыл руки. Рано или поздно дело не могло не принять дурной оборот. Туристы ради эффектного кадра время от времени бросают павианам еду с веранды и делают снимок, а если потом павиан из тех, что поагрессивнее, кидается на еду — необязательно ему предназначенную, — туристы разражаются истеричными воплями. В тот же день является егерь с винтовкой и убивает павиана-другого. Или бывает так: в поселке для персонала какая-нибудь женщина поленится дойти до мусорного бака, чтобы выбросить в него остатки кукурузной каши, и вместо этого отдает их поджидающему у дома павиану, а на следующий день, когда она готовит такую же кашу во дворе, на кашу кидается тот же самец, еще не постигший тонкую разницу между состояниями кукурузной каши до и после того, как люди решили, что она им уже не нужна. Опять поднимаются вопли, и опять егерь убивает пару павианов. В предыдущем году проститутка, работающая при столовой для персонала, родила ребенка-калеку, и по округе пошел слух, будто ее изнасиловал павиан. Я не шучу! И егеря опять застрелили парочку.
Вот таким было это стадо. И теперь в нем тут и там вспыхивал туберкулез. Как я уже упомянул, я понятия не имел, как распространяется туберкулез среди диких приматов, а из бегло просмотренных за предыдущую неделю книг я вынес впечатление, что этого не знает никто. По всей видимости, мне-то и предстояло это выяснить. И без того я половину ночей проводил в мыслях о том, скоро ли туберкулез доберется до моих павианов.
Я связался по рации с приматологическим центром в Найроби. В это время там шел процесс преобразования благотворительного заведения и забавы колониальных матрон — приюта для умилительных ручных обезьянок-сирот — в первоклассный исследовательский институт. Директором в нем был американский ветеринар Джим Элс, человек с потрясающими организаторскими способностями. Я питал к нему симпатию и уважение — надеюсь, что взаимно. В тот раз сквозь треск эфира, пропадающий звук, необходимость после каждой фразы жать на кнопку и говорить «прием» я прокричал Джиму о симптомах, вскрытиях и вырисовывающихся закономерностях и даже сквозь треск и металлические монотонные интонации расслышал озабоченность в его голосе. «Да, — сказал он, — похоже на туберкулез, но для подтверждения совершенно необходимо взять легкое на посев». Поскольку я ученый, то распознал в его голосе нотки ученого: «совершенно необходимо, ведь это может оказаться интересно и информативно» (то есть что-то вроде «будет занимательно»). Но поскольку я не клинический врач, то не смог толком определить, были ли в голосе ветеринара нотки «совершенно необходимо, ведь это может быть началом эпидемии». В любом случае его просьба была ясна. Для посева необходима легочная ткань. Значит, от меня требовалось привезти в Найроби живого больного павиана.
Иными словами, павиан должен быть болен, но на ранней стадии — тогда он вынесет транспортировку. Я уже умел худо-бедно распознавать симптомы, так что надеялся выследить павиана с начальными признаками болезни, однако все в целом представлялось делом непростым. Тогда я еще не подозревал, что главная сложность будет в людях.
В Олемелепо уже все знали: с павианами что-то не так. Меня начали спрашивать, не опасны ли павианы, не нужно ли их всех поубивать. Затем, по древней традиции казнить гонца, доставившего дурную весть, в народе стали поговаривать, что павианы заболели по моей вине — дескать, если павианы принадлежат мне, то я властен исправить положение, и тогда выходит, будто я намеренно решил бездействовать и поставил людей под угрозу. И теперь я изрядную часть каждого дня тратил на разъяснения: нет, животные не мои; нет, не все они больные; нет, пока не известно, опасна ли болезнь для людей; да, я стараюсь принимать меры и так далее.
Обнаружился еще один случай заболевания, притом слишком запущенный — павиан не дожил даже до переноски в мой лагерь, не то что до перевозки в Найроби. На следующее утро, оглядывая свалку в поисках подходящего животного, я заметил там жующих Саула, Сима и Ионафана — они явно улизнули из родного стада ради быстрого набега на свалку: силы им было не занимать, и разжиревшие на свалке местные самцы не были для них серьезными соперниками. У меня по спине пошел холодок: вот вам и канал, по которому туберкулез может перекинуться к моему стаду. В тот же день я увидел, как несколько рабочих Олемелепо бросают в павианов камни, пытаясь отогнать их от гостиницы.
На следующий день принцип «убить гонца» нашел свое дальнейшее развитие. Гостиничный управляющий в Олемелепо объявил, что не желает меня больше видеть на территории гостиницы. Знакомый охранник встретил меня у входа и виновато объяснил, что мне больше нельзя туда приходить и пускать дротики в павианов.
Я менял машины, тайком появлялся в Олемелепо только на рассвете и в сумерках, на самой границе гостиничной территории, в надежде найти подходящее животное. На третий день я выследил взрослую самку павиана: отчетливо выгнутая спина, кашель, один участок облысения, остальное более-менее в норме.
Я усыпил ее дротиком на берегу ручья, текущего в Олемелепо. Состояние самки оставалось стабильным, она вполне могла перенести путешествие в Найроби. И тут началась мучительная эпопея с добыванием разрешения на транспортировку животного.
Сложности в основном были связаны с типичной для всех заповедников мира враждой между начальством и учеными. Эти два типа людей живут в совершенно разных мирах. Первые — правительственные бюрократы, которые в полевых условиях надевают военную форму, а в офисе носят костюм с галстуком; вторые, напротив, предпочитают джинсы. Первые только и мечтают увеличить приток туристов в заповедник; вторые с радостью избавились бы от надоедливых туристов навсегда, лишь бы изучать свой драгоценный вид муравьев в идиллической тишине и покое. Первые — по большей части реалисты и прагматики, живущие в мире «реальной политики»; вторые склонны к истерикам и спорам и гордятся отсутствием навыков общения. Первые обычно имеют диплом по менеджменту в сфере заповедного дела, вторые щеголяют престижными дипломами знаменитых университетов и при этом, к неконтролируемому раздражению первых, предпочитают жить в протекающих палатках, как нецивилизованные свиньи. А главное — первые, по всей видимости, существуют лишь для того, чтобы ссылаться на запретительные законы, а вторые — чтобы плевать на любые запреты, если это сойдет им с рук.
Итак, эти две группы людей обычно не питают друг к другу теплых чувств и не склонны идти на жертвы ради благополучного сотрудничества. Знание об этом должно было подготовить меня к дальнейшему развитию событий.
Два дня подряд я приходил к офису главного управляющего в надежде взять разрешение на вывоз больного животного в Найроби, и два дня подряд мрачный егерь с винтовкой говорил мне, что управляющий патрулирует территорию и надо прийти завтра. На третий день тот же егерь сообщил мне, что управляющий всю неделю дома в отпуске. Тем временем состояние самки, сидящей в клетке у меня в лагере, ухудшилось: начался жар и усилился кашель, не дававший нам обоим спать по ночам. Я купил несколько головок капусты и кормил ее с руки через прутья клетки. Она меня боялась, особого аппетита у нее не было, но мало-помалу начала брать у меня пищу.
Я не мог сидеть и дожидаться возвращения управляющего. Я попробовал поговорить с начальником противобраконьерского подразделения; тот заверил меня, что выдаст мне разрешение на вывоз самки из заповедника, если я ему назавтра принесу подарок. Я принес. И начальник радостно сообщил мне: он, дескать, только что обнаружил, что не имеет права выдавать разрешение на вывоз. В тот же день после полудня, вернувшись в лагерь, я обнаружил там нескольких егерей, которые с хохотом тыкали в самку палками сквозь прутья клетки. К вечеру того дня она уже не очень меня боялась — то ли привыкла, то ли затуманилось сознание, — с готовностью ела капустные листы и позволяла мне себя обыскивать. Она уже не могла пользоваться левой рукой из-за некроза.
Наутро я случайно выяснил, что управляющий уже два дня как вернулся. Об этом мне сказал все тот же егерь, брезгливо дававший мне неверные сведения всю неделю. На этот раз я уже знал, что управляющий на месте. Он продержал меня в приемной час, потом велел передать мне, что он слишком занят и не сможет меня принять; все это время из кабинета доносился хохот и голоса, в том числе голос управляющего, и звук открываемых бутылок. К вечеру самка уже плохо двигала правой рукой и стала кашлять кровью.
На следующий день при встрече с управляющим я с улыбками и расшаркиваниями выпрашивал у него разрешение на вывоз обезьяны в Найроби. Управляющий с каменным лицом сказал: «Нет, разумеется, ведь это разбазаривание природных богатств Кении». «Вы смеетесь, что ли? — ответил я. — Она через считаные дни погибнет». «Нет, — заявил управляющий, — если вы ее вывезете, то это браконьерство, мы вас поймаем». И это из уст человека, которого на протяжении его блистательной карьеры уже дважды арестовывали за браконьерство, а через год повяжут за незаконную охоту на носорога (и который благодаря мощным родственным связям с масайской политической верхушкой в результате получит повышение). Ту ночь самка провела в бреду, бессильно привалившись к стене клетки.
Наконец сквозь эту блокаду сумел прорваться Джим Элс. Я каждый день сообщал ему по рации об очередных проволочках, и он, со своей стороны, яростно пытался пробить этот лабиринт власти и косности. Насколько я понимаю, он добился того, чтобы его начальник Ричард Лики, тогдашний директор национального музея (частью которого был приматологический центр), вытряс нужное разрешение у главы департамента по делам заповедников. Моему управляющему передали распоряжение по рации, он артачился и требовал его в письменной форме, в конце концов бумагу, уполномочивающую меня на транспортировку в Найроби больных павианов в количестве до трех штук, доставили самолетом во второй половине того же дня.
Дорога из заповедника была опасной, ехать в ночь было нельзя. К вечеру самка впала в кому; я не знал, доживет ли она до Найроби. Я поспешил выехать еще до рассвета, и в довершение эпопеи был остановлен на границе района невменяемым охранником пропускного пункта. «О, да у вас тут павиан!» — возгласил он. «Да, да, больная самка, умирает, вот разрешение». Он изучает бумагу и вдруг заявляет:
— Тут написано, что вы везете трех павианов, где остальные два?
— Нет-нет, там написано, что я могу везти до трех павианов.
— Нет, тут написано, что у вас должно быть три павиана, два отсутствуют, что вы с ними сделали, бвана? Продали? Дело серьезное.
Проклятье! Самка слабеет на глазах, я раздумываю, не прикончить ли охранника на месте, а он, злорадно отвесив челюсть, потешается надо мной. Наконец он дает понять, чего хочет:
— Бвана, у вас неправильное разрешение. В нем написано «три павиана», а должен быть один, поэтому вы должны заплатить штраф за неправильное разрешение.
Мерзавец ты продажный, отчего ж ты раньше не сказал, что просто хочешь взятку. Я отдал деньги, дал по газам, дальше несся на сумасшедшей скорости, в Найроби попал в час пик и торчал в пробках, непрестанно слыша, как тяжелое неровное дыхание самки временами останавливается вовсе. У ворот лаборатории я долго препирался с охранником, который не хотел меня впускать из-за того, что меня не было в списках. И вот наконец я добрался до здания, где находилось отделение патологии.
Не могу объяснить, что меня заставило убрать с губ самки ошметки капустных листьев, которыми я ее кормил, и вытереть ей глаза, слезившиеся после пыльной дороги. Коротко мелькнула антропоморфическая мысль: «Она из гостиничного стада, не из моего, поэтому без имени». Затем я на руках отнес ее в здание и — несколькими минутами позже — ассистировал при вскрытии грудной клетки. И вновь легкие растеклись у нас на глазах.
Джим заранее предупредил, что посев даст результаты лишь через несколько недель, и тогда микробиолог сможет сказать, туберкулез это или нет. Однако сами ветеринары единогласно назвали диагноз в ту же секунду, когда потекло легкое; то же подтверждали и кожные симптомы, и первый же сделанный ими гистологический анализ. Микробиологам оставалось лишь уточнить конкретный тип туберкулеза, но в тот конкретный момент тип был не важен.
На следующий день мы с Джимом и группой его сотрудников-ветеринаров обсуждали ситуацию. Никто не сомневался, что речь идет о туберкулезе, и все знали, что угрозы людям он не несет. Люди к нему относительно невосприимчивы, и в Олемелепо те, кто сыт и хорошо одет, туберкулезом не заразятся. У остальных он, скорее всего, и так есть, Кения для туберкулеза — дом родной. Джим сделает все возможное, чтобы в заповеднике всех оповестили о том, что для людей никакой угрозы нет.
Однако для павианов угроза была, и еще какая! Ситуацию мы обсуждали часами. Случись такая вспышка туберкулеза в лаборатории по изучению приматов — процедура была бы очевидной: все обезьяны в том отсеке, где обнаружился туберкулез, были бы убиты в тот же день. Остальных животных в колонии, всех до единого, проверили бы на наличие заболевания, и в каждом случае вместе с обнаруженным больным животным уничтожались бы все обезьяны в том же отсеке. Иначе болезнь разнесется со скоростью лесного пожара. Тошнотворное слово всплывало вновь и вновь. Остановить пожар может противопожарная вырубка. Убить всех обезьян из зараженного отсека и всех животных, на которых падет хоть малейшее подозрение: всех, дышавших тем же воздухом. Вырубить часть леса, чтобы пламя не перекинулось на другие участки.
Однако дело происходило не в лаборатории, где обезьяны живут тесно. Как я и предполагал, никто из ученых не знал динамику распространения туберкулеза среди диких приматов. И теперь — вот такое нам выпало неслыханное счастье — нам предстояло это выяснить. Может, в природе туберкулез распространяется медленнее — ведь там нет такой скученности павианов, как в лаборатории. Или, наоборот, быстрее — ведь в природе павианы постоянно друг с другом взаимодействуют. Или медленнее — ведь иммунная система у них не угнетена стрессом пребывания в неволе. Или быстрее — ведь питание у них хуже лабораторного.
Так мы и ходили кругами, не зная, что предпринять. Лечить заболевших павианов было невозможно: при туберкулезе нужен ежедневный прием препаратов в течение полутора лет. Оставалось лишь не дать болезни распространиться. Для этого нужно было знать, откуда она взялась. В последнее время в заповеднике Мара не было замечено вспышек смертности среди павианов, и нынешние случаи заболевания не походили на нечаянно обнаруженные отголоски эпидемии, составляющие верхушку айсберга. Самой правдоподобной казалась гипотеза, что какой-нибудь зараженный туберкулезом самец-павиан пришел к нам из Танзании и присоединился к гостиничному стаду — на нашей стороне это стадо было следующим после приграничного. При той неразберихе, которая царила тогда в Танзании, вымирание павианов на танзанийской части саванн вполне могло остаться незамеченным.
Если этот павиан-эмигрант принес заболевание в наш заповедник и я уже отследил тот канал, по которому оно способно перекинуться от олемелепского гостиничного стада к моему, то туберкулез может распространиться по всему заповеднику. С другой стороны, ситуация могла быть и иной: возможно, туберкулез в Маре многие годы тлел в скрытом рассаднике, проявляясь лишь время от времени, и при этом у большинства павианов к нему природная устойчивость. Тогда это не новое заболевание, а вспышка старого, уже знакомого. В то же время в лабораторных колониях туберкулез не тлеет в рассадниках, и к нему не существует природного иммунитета. Но опять же гостиничное стадо — не лабораторная колония.
Круг за кругом, сплошное хождение кругами. Ветеринары, которые натасканы на медицине в условиях зоолабораторий и у которых при слове «туберкулез» включаются все сирены пожарной тревоги, настаивали на самых агрессивных мерах. Слово «вырубка» всплывало все чаще. Убить всех павианов из гостиничного стада. Убить всех павианов из сопредельных стад. Очистить от павианов часть территории и тем самым остановить заболевание, пока оно не разошлось по всему заповеднику. Но ведь это мои павианы! Это они станут жертвой «вырубки»! И пусть я не ветеринар, не клиницист и полный профан в туберкулезе, я все-таки ученый — и я хорошо понимал, что ничего научного в таком подходе нет. Лабораторная биология не то же, что полевая биология, — именно из-за этого научного обстоятельства я и изучал павианов в дикой природе, а о том, как распространяется туберкулез в дикой природе, никто тогда не знал.
Я одержал временную победу. Мы не станем делать «вырубку». Мы проведем что-то вроде научного расследования наряду с клиническим вмешательством. Мне предстояло вернуться в заповедник и начать метать дротики во всех павианов, до каких смогу дотянуться, брать у всех пробу на туберкулез и потом немыслимые четыре дня держать каждого в клетке. Если зараженных павианов окажется в гостиничном стаде больше половины — значит туберкулез на грани эпидемии, тогда будет смысл прибегать к жестким мерам. Однако мне предстояло отслеживать и альтернативное направление, и обнаружение нужных данных дало бы надежду на более оптимистичный исход: если найти хоть один случай туберкулеза в любом из дальних стад — таких, которые в заповеднике существуют годами и которые, по моим наблюдениям, не претерпевают сейчас катастрофического сокращения численности, — то этим мы докажем, что в дикой природе туберкулез не всегда распространяется со скоростью лесного пожара. Это будет значить, что болезнь передается более медленно, как у людей, и заражает лишь уязвимых особей, а не сметает с лица земли сразу всю популяцию. Если заболевание не распространяется как лесной пожар, то и «вырубка» не нужна.
Ветеринарам такое решение не очень-то нравилось. «Наука наукой, — читалось в их словах, — но поверь, мы-то с туберкулезом знакомы: если он начался, то все павианы в Маре погибнут, ты сам об этом пожалеешь». Джим и остальные взяли с меня логичную клятву: любого павиана, у которого по анализам обнаружится туберкулез, я должен буду убить, даже если он будет из моего стада.
С тех пор мои собственные исследования приостановились: я только и делал, что стрелял дротиками в павианов. Я обещал начать со своего стада, но для начала сосредоточился на гостиничном — просто посмотреть, многие ли заражены, — и на стаде в другом конце заповедника в отчаянной надежде обнаружить там одного больного павиана на целое стадо здоровых.
Пока не начинаешь стрелять в незнакомых павианов, не замечаешь, насколько хорошо изучил своих. У чужих не знаешь характера: не можешь предвидеть, кто после попадания дротика подскочит, оглядится и сядет обратно, кто полезет на дерево, кто пробежит километр, кто кинется тебя убивать. Не знаешь, кто с кем враждует и кого от кого надо защищать в тот миг, когда подстреленный падает в бесчувствии. Не знаешь вес павианов и особенности их метаболизма, количество анестетика для шприц-дротика отмеряешь на глаз. Не знаешь окрестностей и опасных мест, облюбованных буйволами или змеями. Павианы тебя тоже не знают, поэтому на привычно близкое расстояние к ним не подойдешь.
И все же я мало-помалу начал стрелять. Из приматологического центра я привез несколько клеток и туберкулин для анализов. Препарат полагалось хранить в холодильнике, которого у меня не было; в сухом льду для него температура слишком низкая, в закопанном в землю пенопластовом контейнере — слишком высокая. К счастью, после разъяснений Джима о том, что вспышка неопасна для людей, народ в Олемелепо вновь ко мне расположился, и помощник управляющего разрешил хранить флакон у него в холодильнике. Стреляешь в павиана, бежишь за препаратом, отмеряешь миллиграммы и потом вкалываешь туберкулин в глазное веко. Если делать аналогичную диагностику на человеке, то пациента потом можно осмотреть вблизи, поэтому инъекция делается подкожно в руку. А если имеешь дело с обезьяной, которая вблизи раздерет тебя в клочья, то вкалываешь препарат в веко, чтобы результат был виден издалека. Ждешь четыре дня, и если организм поражен туберкулезом и успел выработать антитела, то в месте инъекции кожа даст воспалительную реакцию. Набухшее веко закрывает весь глаз, такую опухоль видно даже за двадцать метров. У кого глаз заплыл — тому не жить.
Жизнь превратилась в сущий кошмар. Стреляешь в радостного здорового павиана, который обыскивает родственника или приятеля. Потом он четыре дня сидит у тебя в лагере, запертый в тесной клетке, по соседству с полудюжиной таких же вопящих и взлаивающих особей, — все вокруг загажено экскрементами, вонь стоит непередаваемая. Гниющая капуста, лужи мочи, ночные стоны испуганных и недовольных павианов. Каждое утро одному-двум наступает срок для вынесения вердикта. Может, глаз будет нормальным — и тогда в следующий миг павиан, выпущенный на волю, вприпрыжку помчится к компании своих дружков, готовых обыскивать его и слушать рассказ о невероятном приключении. А если глаз опух и не открывается, я должен как-то ввести анестетик мечущемуся по клетке животному. А потом ему дорога на другой конец поля, под нож.
Мне не хватало припасов, все заканчивалось. Недоставало масок и перчаток для вскрытия — даже при общей стойкости людей к туберкулезу им не рекомендуется целые дни торчать без маски в дюйме от чьих-то туберкулезных легких в терминальной стадии, и я начинал беспокоиться о моем собственном здоровье[22]. Недоставало анестетика, так что я не мог вводить повышенное, смертельное количество препарата и начал прибегать к тошнотворной практике вводить усыпляющую дозу, а потом перерезать горло. Теперь мои ночи были наполнены воспоминаниями о влажном, свистящем, судорожном хрипе павианов, пытающихся дышать без горла. А потом у меня пропал нож.
Я по-прежнему оставлял его на изгибе дерева, тень которого осеняла мой морг. Мне не хватало дезинфицирующих средств для обработки ножа перед каждым новым животным, и я отправил его в постоянную ссылку в тот угол лагеря. И однажды я не обнаружил его на месте.
У меня был другой нож, без инструмента я не остался. Беда была в другом. Нож взяли масайские мальчишки-пастухи, накануне проходившие через мой лагерь со стадом коз. Они знали, чем я занят, поглазели издалека на вскрытие — и, по-видимому, решили улучить момент и прибрать нож к рукам. Ценная находка, для масаи очень полезная — отличный острый нож для вскрытия коровьей вены и собирания крови. С одной оговоркой: этот нож соприкасался с туберкулезным легким, а коровы крайне чувствительны к заразе, так что пастухи мелкой кражей подвергали риску эпидемии всю свою деревню.
И теперь я не только кормил павианов в клетках, ежедневно кого-нибудь убивал или постреливал шприц-дротиками в разных концах заповедника, — я пустился в переговоры. Рода и Соирова сразу же убедили меня, что мальчишки из их деревни нож не брали, так что мне пришлось объясняться с народом из примыкающих деревень, где я почти никого не знал. Мне было плевать на нож, я не злился за кражу, я лишь объяснял, что нож опасен, от него могут погибнуть коровы. Я даже не требовал нож обратно, пусть бы они его попросту выбросили. И каждый раз меня встречали негодованием: «Красть? Да ни за что! Мы, масаи, о таком даже и не помышляем!» Снова и снова, каждый день я только и делал, что уговаривал местных выбросить нож, и это стало постоянным фоном, лишним поводом для метаний и беспокойства.
Прошла неделя, больных туберкулезом павианов в дальнем стаде пока не обнаружилось, зато гостиничных заражено было порядка 50 процентов. «Вырубка» казалась неотвратимой. Ни дня не проходило без убийств. У одних павианов я находил только узелки, у других — узелки и распад легких. Ужасы, подобные первым случаям, больше не повторялись, — правда, сейчас мне в руки попадали животные с виду здоровые. К моему недоумению, поголовно у всех обнаруживались узелки в пищеварительном тракте, иногда даже при чистых легких, еще не тронутых болезнью. Судя по книгам, которые я теперь читал, такая картина была нетипичной.
В один из дней, когда я в очередной раз охотился с дротиками на гостиничных павианов, дело не задалось. Я выстрелил в крупного самца, и, пока анестетик действовал, павиан успел перебраться на другой берег. Я не знал, каков его характер и много ли у него врагов. Пока я переходил реку вброд, самца успели порвать — на теле красовалиось с десяток ран от клыков. Я притащил его в лагерь и из жалости к его ранам ввел ему смертельную дозу анестетика, изрядно сократив и без того тающие запасы препарата. А потом, во время вскрытия, я отчаянно надеялся обнаружить признаки патологии. К счастью, я нашел небольшой пораженный участок на левом легком и узелки в кишечнике: через четыре проверочных дня, которые ему предстояло бы провести у меня в клетке, ему все равно пришлось бы погибнуть от моей руки.
В ту ночь, острее прежнего осознав риск усыпления чужих павианов, я решил наконец обследовать собственное стадо. На следующий день я поразил дротиком Иисуса Навина с Деворой и еще двоих павианов из гостиничного стада. С чужими павианами обычно не знаешь, что за животное и где его потом искать, поэтому чужих я на испытательные дни сажал в клетку, а павианов из своего стада я нашел бы с легкостью, и держать их четыре дня в заточении не было нужды.
Поэтому я просто ждал. Назавтра я сделал инъекцию Иессею и Адаму, еще через день Даниилу, после настал черед Афган и Бупси. В ту ночь я почти не сомкнул глаз, из головы не шел будущий вердикт Иисусу Навину и Деворе: я представлял себе, каково мне будет перерезать им горло, вскрыть грудную клетку, закопать их тела.
Однако они оказались здоровы. И остальные павианы в моем стаде — тоже. Меня охватила эйфория, впервые за много недель хотелось улыбаться. Через несколько дней я заметил, что павианы из гостиничного стада тоже вдруг стали проходить туберкулиновый тест на ура. Даже та самка, у которой за четыре дня, проведенных в клетке, проявились несомненные симптомы туберкулеза. Что-то было не так.
На следующий день все выяснилось. Я влетел к помощнику управляющего олемелепской гостиницей, чтобы взять туберкулин, и застал там уборку: парень из гостиничной прислуги наводил порядок в доме — и в холодильнике тоже. На подоконнике, жарясь под лучами экваториального солнца, красовались молоко, сыр, бутылки с пивом и, разумеется, туберкулин. Парень был новичок, работал всего первую неделю, уборку делал ежедневно. Туберкулин не годился в дело, результаты теста — тоже. Я принялся ждать, пока мне самолетом привезут новую порцию препарата, мне снились извергающиеся лавой легкие.
Потом опять стрельба шприц-дротиками; заболеваемость в гостиничном стаде приближалась к 70 процентам. Число вскрытий становилось угрожающим, меня на них едва хватало. Два ветеринара из приматологического центра, Росс Тарара и Мбарук Сулеман, вызвались помочь и, вероятно, попытаться убедить меня в необходимости «вырубки». Я приготовился к их приезду — к их помощи, их обществу, их соболезнованиям, их профессиональным знаниям о туберкулезе, которых мне отчаянно не хватало. А потом, за день до их приезда, тест впервые показал наличие туберкулеза и в моем стаде — у Сима.
Этого мига я никогда не забуду. К тому времени я только-только собрался с мужеством и вновь начал тестировать свое стадо, сделал пробы на Исааке, Рахили и затем на Симе. Первые двое оказались чисты — в те же дни проба на павианах из гостиничного стада показывала зараженность туберкулезом, так что этому результату я доверял. В то утро, войдя в лес, я немедленно наткнулся на сидящего Сима, у которого глаз полностью заплыл. Я давно уже задавался вопросом, бывает ли при таких тестах пограничный результат, когда зараженностью под вопросом. В этот раз сомнений не было — у Сима был туберкулез.
Дротики я в тот день отложил и занимался до самого вечера лишь наблюдениями за поведением — впервые за долгое время. Ходил за павианами, бездумно собирал стандартные поведенческие данные, что-то им пел. К горлу подкатывал комок каждый раз, когда Сим с кем-то общался — приветствовал самца, обыскивал самку, оборачивался на кого-то посмотреть. И все это в последний раз в жизни. А я все не притрагивался к дротикам и раз за разом пропускал возможность его усыпить и перерезать ему горло.
В тот вечер я сбежал к Лоуренсу за советом и утешением. Мне никогда не хватит слов воздать ему должное за то, что в этот безумный период моей жизни он был неисчерпаемым кладезем здравомыслия и братской надежности. Он долго и терпеливо слушал мои излияния, а потом поступил единственно правильным образом — перефразировал то, что я ему говорил, и повторил мне как приказ:
— Ты знаешь не хуже меня, что насчет здешнего туберкулеза твои ветеринары ни черта не понимают, да и никто не понимает. Если они правы, то павианы все перемрут и без твоего вмешательства, так что убивать этого твоего самца совершенно незачем. А если неправы — то, может, нескольких зараженных можно спасти, вдруг все-таки обнаружится устойчивость к болезни. Не убивай его.
На следующий день, когда я ехал в Олемелепо встречать самолет с Россом и Сулеманом, я видел Иессея — глаз у него заплыл, павиан был заражен. Ни о нем, ни о Симе я ветеринарам ничего не сказал.
Мы приступили к работе, коллеги оказались невероятно ободряющим подспорьем. Приятные и общительные, Росс и Сулеман мне нравились еще по предыдущему знакомству; и они тут же с готовностью взяли тон ученых, получающих от работы удовольствие и не склонных к сантиментам: «Ну и ну, надо же, какой бардак творится в легких». Такой чисто клинический интерес к тому, что составляло для меня трагедию, я предвидел и заранее опасался, что он будет меня раздражать, однако средство оказалось на удивление умиротворяющим. Мы сообща взялись за работу, и дело пошло быстрее: я теперь по большей части стрелял в павианов дротиками (чего ветеринары не умели), а гости в основном занимались вскрытиями — своей профильной работой. Мы продвигались все дальше, я избегал вопросов о своих павианах, дальнее стадо по-прежнему показывало ноль процентов заболеваемости, зато среди гостиничных — процент достиг семидесяти. Среди дня я на время ускользал и тайно обследовал своих павианов; обнаружились еще двое зараженных — Давид и Ионафан. В один из дней я усыпил дротиком Вениамина и понял, что у меня не хватит решимости ввести ему туберкулин для анализа.
Работа шла в изнуряющем режиме, который не оставлял времени на отвлеченные размышления, и мне это только шло на пользу. Огромный объем дел, повторяемость рутинных действий, слишком короткий сон — все это вкупе создавало обезболивающий эффект. Стрелять дротиками, кормить павианов в клетках, проверять результаты туберкулиновой пробы, вкалывать анестетик, уговаривать очередную масайскую деревню, убивать, вскрывать, записывать наблюдения, проводить вечера за обсуждениями «вырубки». В некотором смысле это была академическая работа — по крайней мере применительно к гостиничному стаду: нам все равно предстояло уничтожить в нем почти всех — частями ли или одним махом в результате заранее обдуманного окончательного решения. Гибнущие животные одно за другим проходили через наши руки, работа изматывала донельзя, и каждый вечер дневные труды увенчивались зрелищем, которое я теперь вспоминаю с тоской, впустую расточаемой на давние, со временем изживающие себя кошмары, — огромная вырытая нами яма и горящие тела павианов, политые бензином.
Скучную заурядную жизнь моего концлагеря и крематория и умиротворяющую грусть, навеваемую запахом гари, вдруг нарушил Джим Элс, вызвавший меня по рации. Получены результаты микробиологического анализа — совершенно непредвиденные. Туберкулез оказался бычьим, не человеческим.
Туберкулезом в действительности называют целый ряд заболеваний. Во всех случаях туберкулез порождается бактерией, которая активизируется в организме. Чаще всего он начинается в легких, куда попадает при дыхании, а потом кровь и лимфа могут разнести его по всему телу. Вторичный туберкулез может возникнуть практически в любом органе — в центральной нервной системе, в мочеполовой системе, в костях. Обычно же он локализуется в легких. По большей части он вызывается одним типом бактерий — Mycobacterium tuberculosis, это человеческий туберкулез. Однако существуют и более редкие разновидности: M. kansasii, M. scrofulaceum, M. fortuitum, M. bovis — разновидности «птичьи», «бычьи», «почвенные» и так далее. Тип живых существ, указанный в названии, не обязательно означает, будто данная разновидность туберкулеза возникает исключительно среди них, скорее, он указывает на то, в каких организмах эта разновидность впервые обнаружена или чаще встречается. В основном распространен M. tuberculosis, и чаще всего это легочная форма. Однако сейчас мы имели дело с M. bovis — бычьим туберкулезом, — а он в первую очередь развивается в кишечнике. Павианы заражались туберкулезом не друг от друга при дыхании. Туберкулез попадал в организм с пищей.
Работа остановилась, мы сидели и чесали в затылке. Я наведался в несколько мест, позадавал вопросы, выдумал несколько безумных гипотез, которые день от дня становились все правдоподобнее. И наконец однажды знакомый из Олемелепо предложил мне немного покатать его на машине по заповеднику. Как только мы выехали за территорию гостиницы, он в очень осторожных выражениях подтвердил мои подозрения.
Он опасался выступать в роли информатора, и я не назову ни имени, ни занятия, по которому его можно было бы опознать. Знакомый этот происходил из племени, враждующего с масаи, и был не прочь указать на некоторых пальцем. А поскольку имел образование и когда-то работал помощником ветеринара, то понимал, о чем говорит.
Дело было очевидным. Бычий туберкулез — болезнь крупного рогатого скота. Если он поражал корову, масаи опытным глазом мгновенно это отслеживали. В давние времена коров никогда не убивали. Их держали ради того, чтобы питаться их молоком и кровью, их чтили, воспевали, холили и лелеяли. А если корова заболевала, за ней ухаживали до самой ее смерти, и только тогда могли пустить на еду, да и то с большой неохотой. Однако прагматичные масаи, легко приспосабливающиеся к обстоятельствам даже там, где дело касается их драгоценных коров, придумали кое-что новое. Стоило какой-нибудь корове на масайской территории, окружающей заповедник, выказать признаки туберкулеза, ее в тот же день грузили в пикап, отвозили в Олемелепо и продавали Тимпаи — мяснику-масаи. После соответствующей взятки ветеринарно-санитарному инспектору, тоже масаи.
Мой знакомый знал, как выглядит заболевшая туберкулезом корова. Он видел, как Тимпаи отводил больных коров на дальнее поле, вырезал легкие и другие зараженные органы и бросал их гостиничным павианам, которые теснились вокруг в ожидании обрезков. А остальное мясо Тимпаи продавал работникам гостиницы. Вскоре я и сам стану свидетелем этого ритуала, и даже украдкой сделаю несколько мутных снимков длиннофокусным объективом. Я увижу, как Тимпаи — толстый, похожий на доброго дядюшку, с массивными мясницкими руками — разрубает тушу, радостно запускает руки по локоть в кровь и плоть (и, несомненно, в туберкулезные бугорки и в поврежденные болезнью ткани), роется во внутренностях вместе с масайскими помощниками из буша и швыряет нечто неприглядное павианам, собравшимся вокруг. Крупные самцы дерутся за увесистые ломти, самки шмыгают между ними и подбирают куски помельче, детеныши пугливо выхватывают ошметок-другой. Обрекая себя на неминуемую гибель. И, конечно же, здесь временами мелькали то Сим, то Саул, то Иессей, пытающиеся в свободное от обязанностей время урвать в драке свою долю добычи.
Я полыхал убийственным гневом против масаи и не пытался его сдерживать. Я прекратил всякие попытки вразумить их насчет туберкулезного ножа. Капля в море, пусть идут к черту: я просто возвращаю им бычий туберкулез, который они напустили на моих павианов. Теперь я испытывал странное облегчение. Мы получили объяснение нетривиальному варианту туберкулеза и нетривиальной симптоматологии. Мы примерно знали, что делать. Избавиться от санитарного инспектора, прекратить махинации с мясом — и тогда, возможно, туберкулез утихнет и часть животных будет спасена. Я почти впал в эйфорию: у нас появились ответ, возможность, надежда.
Россу и Сулеману пора было уезжать, возвращаться к собственным делам. Я передал с ними письмо для Джима. В нем я подробно описал цепочку, ведущую к мяснику, обрисовал очевидное: нам, возможно, вместе с Ричардом Лики надо немедленно встретиться с владельцами сети гостиниц «Сафари» — головной организации для Олемелепо, призвать их к действиям, а в случае отказа пригрозить оглаской и покончить с проблемой.
Письмо ушло к адресату, и на следующий день я весь в радостном возбуждении получил от Джима приказ по рации: немедленно прибыть в Найроби. Я выехал наутро, готовый ринуться в бой, уже предвкушая благополучную развязку. А на следующий день за закрытыми дверями Джим сказал мне, что ничего подобного не произойдет.
Туризм — самый крупный в Кении ресурс для притока иностранной валюты. В пересчете на местные реалии эта отрасль крупнее, чем стальная, автомобильная и топливная промышленность в США, вместе взятые. Сеть гостиниц «Сафари», принадлежащая видной семье британских колониалистов, — одна из крупнейших в стране, и Олемелепо — один из ее флагманов. А мы находимся в той части света, где люди, обладающие властью, творят что пожелают. Где вдова правительственного функционера возглавляет бизнес по нелегальной охоте на слонов, где егеря с винтовками каждый раз в день зарплаты вымогают деньги у гостиничных служащих, где министр правительства однажды, пользуясь служебным прогнозом на неурожайный год, скупил за свои деньги весь урожай и держал его в закрытых хранилищах ради прибыли, устроив голод собственному народу. И, по словам Джима, ни я, ни Джим, ни даже Ричард Лики, самый известный в мире гражданин Кении, не пойдем к владельцу сети «Сафари» с требованием свернуть махинации с мясом. И не будем предавать огласке торговлю туберкулезным мясом в Олемелепо. Я умолял, мы спорили, наконец Джим велел мне возвращаться в заповедник и продолжать изучать туберкулез, а он попробует что-нибудь сделать по своим каналам.
Я был полон злости и яда, никогда в жизни не испытывал такого разъедающего чувства бессилия перед предательством. Как и просил Джим, я вернулся в заповедник, остался один на один с бушующей во мне яростью, никому ничего не сказал, кроме Лоуренса. Целые дни напролет я, как одержимый, изобретал все новые способы отомстить всем подряд. Даже начал готовиться к воплощению в жизнь некоторых из них. Я был намерен защитить моих павианов, спасти их, защитить себя самого, отомстить виновным. Я вернулся к прежним занятиям — стрелял дротиками в павианов и методично документировал дальнейшее распространение болезни, собирая данные для блокнотов наблюдения, которым, по всей видимости, предстояло лежать запертыми в столе у Джима. Одновременно я начал заниматься и другим. Фотографировал животных, толпящихся вокруг разделываемых туш и дерущихся за отходы у гостиничной свалки. Потратив целое утро, я тайно отснял еще одну пленку, выслеживая туберкулезного павиана на последней стадии болезни, который брел, шатаясь, по берегу реки, впадающей в Олемелепо. Потом он упал и умер, и я сфотографировал его лежащим на фоне гостиницы. На собственные деньги я заказал обед в гостиничном ресторане, хотя обычно предпочитал правдами и неправдами добиваться того, чтобы меня угостили очередные туристы; я не столько ел, сколько выискивал самые алые участки говядины и, улучив подходящий момент, закидывал кусочки в принесенную с собой небольшую емкость с формалином. Для тех же целей я покупал мясо у Тимпаи и выдал емкости с формалином своему боязливому информатору на случай, если тот отследит явно больную корову. Я решил собрать доказательства, в мечтах уже видел заголовки американских газет: «Крупнейшая туристская гостиница в Кении угощает туберкулезным мясом стоматологов из Огайо». Я намеревался добыть информацию и спасти своих павианов независимо от властей предержащих, или, если уж мне придется потерять павианов, я был настроен отправить им вслед все остальное: Олемелепо, гостиничную сеть «Сафари» с ее владельцами, Тимпаи, туристскую индустрию Кении, всю их проклятую страну — мои павианы были достойны отмщения.
Я попробовал предпринять некоторые логичные ходы. Например, отправился поговорить с Тимпаи. Если искать на свете человека, который единолично олицетворял бы самые яркие и противоречивые черты африканцев, то лучше Тимпаи никого не найти. Чудесный, очаровательный, ангелоподобный, ни дать ни взять масайский Тевье-молочник из Олемелепо. Силач, поэтому толстым его не назовешь, у него огромный колышущийся живот, круглое лукавое лицо, будто сложенная из чугунных плит грудная клетка и такие же руки. При взгляде на него немедленно вспоминаешь образы с картин Томаса Харта Бентона в духе американского реализма — мужчины, способные унести на плечах наковальню, быка или пару рельсов. Живописности ему добавляла почти невиданная среди местных борода — густая, хорошей формы, кое-где с проблесками седины.
Добрый, смешливый, щедрый, он был одним из старейшин среди местных масаи, вечно давал ночлег не одному, так другому поселянину, приехавшему в Олемелепо из масайской деревни и застрявшему в ожидании обратной оказии, вечно угощал всех чаем. Он даже обнимал людей при встрече в знак приветствия — непривычный жест для жителей здешней округи. Совершенно архетипический образец щедрого и радушного деревенского персонажа, уважаемый и востребованный мясник, мудрый и гостеприимный — таков был Тимпаи. При этом типично в африканском духе он был насквозь порочен, причем в эдакой простодушно-безнравственной манере. Официально он работал в Олемелепо метеорологом, по должности ему полагалось ежедневно снимать показания с дождемера и заносить их в журнал. Однако к метеорологии он и близко не имел отношения уже много лет и сваливал всю работу на подручных, которых слезными письмами выпросил себе у правительственных служб. Рабочие часы он полностью отдавал незаконному занятию мясницким делом. Тимпаи был из тех, кто с радостью обведет вас вокруг пальца и потом с не меньшей радостью заговорщически в этом признается. Самый крупный случай его мошенничества едва не закончился смертельным отравлением половины народа в гостинице. Какие-то окрестные масаи везли ему старую, дряхлую, почти коматозную корову: они погрузили ее в кузов нанятой машины, довезли до места и тут обнаружили, что корова часа два как сдохла. Даже успела окоченеть. Пустяки! Масаи скинули цену, вручили сколько-то наличными Тимпаи и санитарному инспектору — и окоченевший труп «забили» в поле. Мясо продали куда надо, все попробовавшие слегли. Пришла полиция, Тимпаи и санитарный инспектор дали подобающую взятку, тем дело и закончилось.
И теперь, прихлебывая чай Тимпаи, я ненавязчиво поинтересовался: может ли забиваемая корова оказаться больной?
— О нет!
— Почему ты так уверен?
— Потому что санитарный инспектор мне говорит, что она здоровая.
— А он откуда знает?
— О, уж он-то знает!
И тут, указав рукой на сияющего полуголого инспектора-масаи, сидевшего на полу в пьяном оцепенении, Тимпаи выдал одну из самых памятных фраз в копилке моментов черного юмора в моей жизни:
— Когда корова сюда попадает, инспектор осматривает ее сердце, желудок, печень, легкие, мозг, кишки, и если что-то не так, то он не даст мне ее забить, — светясь от радости, сообщил Тимпаи. — Инспектор прекрасный человек и приносит нам много пользы, потому что бог благословил его и скот быть такими прекрасными.
Так что Тимпаи не собирался отказываться от своей «пользы» ради какого-то там спасения павианов. Видимо, логичнее было бы затеять скандал в Олемелепо и всеобщими усилиями прикрыть этот мясной бизнес. Взобраться на импровизированную трибуну и провозгласить: вот, мол, люди добрые, тут у нас непорядок, ваш сосед Тимпаи вместе с санинспектором заражают вас туберкулезом — и воспылает местью яростная толпа, и больше ни куска зараженного мяса не будет скормлено людям. Как бы не так! Никакие призывы не подействуют, потому что никому нет дела. Когда Тимпаи устроил всем отравление, скормив народу окоченевшую корову, он вызвал лишь легкое раздражение, не более того. Ничего похожего на возмущение или гнев. Я спрашивал людей: «А что было потом? Разве вы не оскорбились?» И мне отвечали: «Ну, Тимпаи и тот инспектор теперь научены опытом и уже знают, что если они так с нами поступят, то заплатят полиции кучу денег, поэтому они, наверное, на такое еще раз не пойдут». Я не отступался: «Но они ведь вас отравили, вы и ваши дети могли погибнуть!» Мне отвечали, что да, это плохо, и добавляли на суахили слово покорности: «дунья». «Таков мир, так устроена жизнь». В тот период, когда я пытался состыковать в своем восприятии Тимпаи как воплощение чистого зла и Тимпаи как давнего щедрого знакомого, именно понятие «дунья» вывело меня на нужную мысль. Отравить ближнего — не такое уж крупное злодеяние, если ближний на это всего лишь досадливо поморщится. Даже если объявить, что Тимпаи с инспектором заражают народ туберкулезом, то всем будет плевать — ведь никто и не ждет ничего другого от таких людей — это их работа.
В тот же тягостный период я выяснил кое-что важное. Одна самка павиана из гостиничного стада, вполне здоровая внешне, по результатам анализов оказалась заражена туберкулезом. Я перерезал ей горло, сделал вскрытие — и ничего не нашел. Никаких узелков в кишечнике или желудке, никаких повреждений легочной ткани. Настороженный и взволнованный, я исследовал каждый дюйм ее легких, и в правом верхнем углу нашел один-единственный высохший туберкул. Ни створаживания, ни разжижения, ни сращения. Всего лишь мелкий «карман» гнилостной ткани, заключенный в нечто вроде хрящевой оболочки и изолированный от остального легкого. Больше во всем теле ничего не нашлось. То есть заразиться, пройти начальный этап патологии и выздороветь — вполне возможно: значит, в дикой природе существует естественная устойчивость к туберкулезу.
Я задокументировал находку наряду с аналогичными, однако к тому времени я был уже слишком осторожен и искушен, чтобы питать какие-либо надежды. К тому же пришла пора уезжать — сезон закончился, мне предстояло на девять месяцев засесть за лабораторные исследования, дальше дело будет идти без меня.
Я собрал вещи и подытожил факты:
• Около 65 % павианов из гостиничного стада заражены туберкулезом и мрут как мухи. В дальнем стаде не обнаружено ни одного зараженного животного. В моем собственном стаде две трети самцов либо заражены туберкулезом, либо были замечены мной в драках за ошметки мяса во время вылазок на территорию гостиницы.
• В принципе, не все потеряно. Заболевание распространяется не так, как в лабораторных условиях. Возможна (по крайней мере в одном случае) природная устойчивость к туберкулезу или как минимум ремиссия; в отличие от человеческого туберкулеза среди павианов не происходило вторичного заражения от особи к особи через кашель. Среди гостиничных павианов не было зарегистрировано ни одного случая чисто легочной инфекции без повреждения тканей кишечника. Более того, в моем стаде заражались только самцы, замеченные мной на территории гостиницы в месте разделки туш, в то время как самки, а также слишком молодые и слишком старые самцы по результатам анализов оказались незараженными. Туберкулез не передавался от павиана к павиану, по крайней мере так быстро, как в лаборатории. Во всех случаях заболеваемость была связана с мясом. Если ликвидировать источник туберкулеза, то новых случаев заболевания, по-видимому, не появится. И даже среди инфицированных павианов некоторые еще смогут выжить. Главное — избавиться от санитарного инспектора и прекратить махинации с мясом.
• Делать «вырубку» нет нужды. Если в условиях дикой природы не происходит или почти не происходит вторичной передачи заболевания от особи к особи, то нет опасности массовой эпидемии среди павианов в данной местности. И даже если при наличии вторичного заражения истребить гостиничное стадо и соседние стада, включая мое собственное, и при этом не избавиться от туберкулезной говядины, то рано или поздно на бесплатную раздачу мяса, устраиваемую Тимпаи, станет собираться следующее ближайшее стадо павианов. То есть и в этом случае нужно избавиться от санитарного инспектора.
• Однако ничто не говорит о намерении санитарного инспектора куда-то уехать. Джим попробует что-нибудь сделать, но обещать ничего не может. Он вновь попытается действовать через Ричарда Лики, но мне велено не очень-то надеяться. Пока что Джим дал мне отмашку начинать писать отчеты о вспышке туберкулеза, которые потом должен будет отцензурировать Лики, чтобы не звучали слишком уж недипломатично. И еще Джим велел мне молчать.
Я провел последнее утро с павианами и, как всегда, поспешил вернуться в свой привычный мир. Я нежился под горячим душем, которого мне так не хватало в лагере, кидался на любую еду, отличную от риса, бобов и скумбрии, встречался с друзьями и забрасывал их рассказами об африканских приключениях, ни словом не упоминая туберкулез. Мало-помалу жизнь вошла в обычную колею, я начал анализировать образцы павианьей крови, сочинил для спонсоров бодрое объяснение малому объему выполненной за сезон работы, тоже без упоминания туберкулеза. Я даже умудрился восстановить в памяти беспорядочные эксперименты, которыми занимался в лаборатории перед отъездом в Кению, и вновь запустить их. И я всеми силами скрывал от Лизы свое беспокойство из-за туберкулеза.
Новостей не было. На мои потоки писем и межконтинентальных телефонных звонков Джим отвечал, что Ричард Лики прилагает все усилия, но пока никаких сдвигов. Мой информатор временами присылал письма, которые, никак не оправдывая ожиданий, оказывались неинформативными: павианов и мясницкий промысел он почти не упоминал, зато разливался соловьем насчет радиоприемника, который очень хотел от меня получить.
Я изучал туберкулез, читал литературу о приматах по теме. Статьи по патологии концентрировали внимание на том, какие повреждения тканей возникают в каких местах; из них я узнал научные названия того, что видел при вскрытии. Статьи по эпидемиологии в основном следовали шаблону «в рамках ветеринарного обследования 1947 года мы обработали [то есть подстрелили дротиками] столько-то обезьян в верховьях Замбези и обнаружили туберкулез в стольких-то процентах случаев». Эти статьи лишь подтверждали, что динамика распространения туберкулеза в природных условиях — вопрос неизученный и о нем никто ничего не знает. Статьи по экспериментальным исследованиям фокусировались на том, как туберкулез передается от одной лабораторной обезьяны к другой: берешь больного примата, перенаправляешь от него еду, воду или воздух здоровому примату и смотришь, заболеет тот или нет. Такие статьи неминуемо заканчивались противоречивыми прогнозами. Одни утверждали, что в дикой природе туберкулез должен распространяться менее активно, чем в лаборатории, где выше плотность популяции. Другие — что в дикой природе туберкулез должен распространяться более активно, чем в лаборатории, из-за более тесных взаимодействий животных. Никто ничего не знал.
И я, и Джим со своими ветеринарами начали работать над нашими собственными статьями о туберкулезе, детально обрисовывая патологию и эпидемиологию; черновики отправляли Ричарду Лики на утверждение. Формулировки оттачивали с особой тщательностью, так чтобы неясно было, о какой части Кении идет речь и где конкретно находится гостиница. Статьи вышли в Journal of Wildlife Diseases («Журнал о заболеваниях в дикой природе») и Journal of Medical Primatology («Журнал о медицинской приматологии») — две публикации, которым, надо полагать, надлежало украшать каждый кофейный столик в Америке. Я втайне надеялся, что зоркий читатель разглядит между строк реальную подоплеку, научная общественность воспылает гневом и разразится призывами к немедленным действиям. Однако на деле, скорее всего, максимум полдесятка читателей этих неприметных изданий лениво скользнули взглядом по заголовку и краткому содержанию статьи, так что последовавшая за этим тишина лишь усилила снедающие меня ярость и чувство одиночества.
Я по-прежнему тратил бездну времени на мечты о мести. В своих фантазиях я уже убил санитарного инспектора и шантажом заставил гостиничную сеть «Сафари» подчиниться моим требованиям. Гостиница служила одной из резиденций для британской королевской семьи во время государственных визитов (в те чудные колониальные времена, когда эта территория была одним из мест королевской охоты), и я мечтал завербовать в союзники королеву Елизавету. Я даже придумал первую фразу письма: «Вашему величеству, вероятно, будет интересно узнать, что во время вашего недавнего визита в Восточную Африку вас могли накормить туберкулезным мясом». Я, разумеется, отлично знал, что говядину для королевских обедов уж точно поставлял не масайский мясник Тимпаи, но решил, что начать письмо броской фразой не помешает. И, конечно, надо щедро накидать туда собственных титулов, чтобы письмо не отбраковала армия королевских секретарей. Королева неминуемо ужаснется и проникнется состраданием к моему рассказу (на тот период я стал роялистом), она велит схватить британских владельцев «Сафари» вместе с санитарным инспектором и заточить их в лондонском Тауэре. Я и вправду составлял черновики такого послания.
Были у меня и другие планы. Деятельность Лоуренса Гиенского недавно удостоилась внимания научного обозревателя The New York Times. Теперь я планировал пойти к той же журналистке и поведать ей свою историю, даже придумывал заголовки. Однако я не стал ни связываться с журналом, ни писать королеве. Я ничего не предпринимал — только мучился от беспокойства да звонил Джиму ради очередной новости о том, что новостей нет. Все больше я понимал неизбежность вывода, что трагедия моих павианов — не такое уж большое дело. Павианы не принадлежат к исчезающим видам, не являются объектом особенной любви. Нынешняя эпидемия туберкулеза почти не несет угрозы людям, да и туберкулез среди африканцев — привычное дело, не стоящее особого внимания просвещенного мира. Вся история с павианами — всего лишь частный случай коррупции в чудовищно коррумпированной стране. Поэтому я просто ждал, надеялся и терзался. А потом пришло время ехать в Кению на очередной летний сезон.
Когда приходит время возвращаться в Кению, я всегда не нахожу себе места от нетерпения: мчусь в аэропорт, наспех со всеми прощаюсь. Умудряюсь ощущать спешку даже в самолете, где тянутся бесконечные часы бездействия. В Найроби наскоро заканчиваю необходимые дела, на бешеной скорости гоню джип через столичные пригороды, через рифтовую долину, через пыльные тропы на подъезде к заповеднику. Спешно продираюсь сквозь неизбежные приветствия, бесконечные рукопожатия, дежурный обмен любезностями на въезде и у каждой из гостиниц. Я мчусь вдохнуть наконец родной запах палатки, обомлеть, обнаружив, что прошлогодние горы по-прежнему на месте, и увидеть своих павианов.
Если повезет, то в первый день они благосклонно выходят на открытое поле, можно окинуть их взглядом, полюбоваться всеми сразу. Перед этим успеваешь передумать много всякого странного — были ли здесь павианы хоть когда-нибудь, не выдумал ли я их, не выдумал ли всю здешнюю местность? Вдруг начинает казаться, будто за мое отсутствие выпали из памяти главные и самые простые подробности: а есть ли у павианов хвосты, бывают ли рога — может, про рога я просто забыл? А может, я не узна?ю никого из павианов, а они не узна?ют меня?
И вдруг они заполняют собой все вокруг, так что немеешь от восторга и окунаешься в них с головой — видишь, кто ничуть не изменился, кто постарел, кто заработал себе новый шрам, у кого в преддверии зрелости наросли новые мускулы. Смотришь на новых детенышей, резвящихся без матерей, и пытаешься угадать, кто чей. Соревнуешься сам с собой — насколько быстро определишь нового альфа-самца. Оцениваешь, кто по-прежнему в друзьях, чей союз укрепился, кто с кем враждует. Видишь, какая самка из вчерашних детенышей вступила в мучительную пору созревания и теперь на каждом шагу позорится перед самцами, какой мелкий юнец перешел в агрессивную стадию взросления. Пытаешься присмотреться к новым самцам, перешедшим из других стад, прикинуть их характер и убедить себя, что не нужно их считать паршивцами лишь потому, что они новые и незнакомые. А в ближайшие недели наведываешься в соседние стада и смотришь, куда перешли прошлогодние самцы-подростки и где теперь будет протекать их взрослая жизнь. И, конечно же, видишь, кого не стало.
В этом году все было так же. Обмен приветствиями в гостинице, приветы от всех американцев, обсуждения погоды и видов на урожай, разговоры — бесконечные, раздражающие, знакомые, успокаивающие, необходимые, задерживающие: егеря, управляющие, официанты, механики, помощник управляющего, связист, водители экскурсионных автобусов. И Тимпаи. И санитарный инспектор. Мы разбили лагерь, починили палатки-кладовые, развалившиеся в прошлом году, вырыли яму под уборную, прокопали сточные канавы, протестировали центрифугу, вычистили духовую трубку, расставили банки со скумбрией, закончили все возможные хозяйственные дела — дальше откладывать было некуда.
Павианы и в этот раз устроили мне подарок к возвращению и на рассвете вышли на самое открытое поле. За тот день и ближайшие недели я узнал, как прошел для них предыдущий год. Я убедился, что вторичной передачи заболевания от особи к особи, как в лаборатории, здесь почти нет. Туберкулез совершенно точно не распространяется со скоростью лесного пожара. И я набрал дальнейшие свидетельства того, что в естественной среде возможны случаи природной устойчивости к туберкулезу, как я и предположил после того единственного случая в предыдущем году. И я выяснил, что туберкулезное мясо в качестве первичного фактора заражения представляет ощутимую опасность для моих оливковых павианов, называемых по-латыни Papio anubis.
И стало так, что болезнь унесла Саула, умершего у меня на руках, как я уже поведал ранее, много историй тому назад.
И болезнь унесла Давида.
И Даниила.
И Гедеона.
И Авессалома.
И болезнь унесла Манассию, который умер в мучительных судорогах перед толпой хохочущей гостиничной обслуги.
И болезнь унесла Иессея.
И Ионафана.
И Сима.
И Адама.
И Шрама.
И болезнь унесла моего Вениамина.
Я пишу эти строки годы спустя, и за все время я так и не нашел поминальной молитвы для тех павианов. Ребенком, когда я еще почитал веру своего народа, я выучил каддиш — заупокойную молитву. Однажды я произнес ее вслух — оцепенело, механически, как дань традиции — над незасыпанной могилой моего отца, но эта молитва прославляет деяния и прихотливую волю бога, который для меня не существует, так что для моих павианов она не годится. Мне говорили, что в приматологических исследовательских центрах Японии читают синтоисткие молитвы за погибших обезьян, совмещающие в себе молитву за убитого животного, возносимую удачливым охотником, и молитву за убитого врага, возносимую удачливым воином. Но хотя я выслеживаю этих животных со своей духовой трубкой и люблю из нее стрелять, клянусь — никогда не воспринимал это занятие как охоту и павианы никогда не были для меня врагами. Так что и эта молитва для них не годится. В мире, который издавна полнится словами плачей и горьких стенаний, никакие слова ко мне не приходят. И те павианы остаются пеплом на мою голову. Вместе с пеплом деменции моего отца и моей науки, так медленно спешащей ему на помощь. С пеплом моих предков в лагерях смерти. С золой слез моей Лизы, пролитых из-за меня. С прахом подопытных крыс, умерщвленных в моей лаборатории. С руинами моих депрессий и больной спины, которая с годами дает о себе знать все ощутимее. С пеплом голода, застывшего в глазах масайских детей, которые смотрят, как я печатаю эти слова, и пытаются угадать, накормят их здесь сегодня или нет.
* * *
С годами я научился, как говорят, смотреть на вещи более отстраненно. Я больше не пылаю яростью по ночам от воспоминаний о том времени, не составляю мысленные списки тех, кого хочу найти и прикончить. Я не пишу эти слова в надежде, что они окончательно подорвут кенийскую экономику, местный туризм или хотя бы покой гостиницы в Олемелепо, чьи управляющие по-прежнему приглашают меня на обед, чьи продуктовые фургоны привозят мне долгожданную почту и чью туалетную бумагу я по-прежнему регулярно утаскиваю с собой. В знак того, что не желаю никому зла, я даже не привожу здесь подлинных названий гостиницы в Олемелепо и гостиничной сети «Сафари». Тимпаи и санитарный инспектор ушли на покой, с тех пор вспышек туберкулеза больше не было. Прокатывающиеся по Африке волны СПИДа, превращение степей в пустыни, войны и голод — это тот фон, на котором моя непритязательная мелодрама выглядит пустяком, трагедией благополучного белого американца, который в силу обеспеченности и привилегий может позволить себе сентиментальность и сострадание несчастным животным на другой стороне земного шара. И все же я невыразимо тоскую по тем павианам.
Я начал работать с новым стадом в отдаленном, пустующем углу заповедника. Ричард трудился как каторжный в попытках обустроить им жизнь, вскоре к проекту присоединился и Хадсон. Как и следовало ожидать, в этом уголке заповедника сейчас красуются новенькая гостиница и туристские палаточные лагеря, наведываются сюда и масаи. Один из самцов уже пал первой жертвой туберкулеза, еще несколько открыли счет тех, кого ради забавы убивают скучающие охранники в палаточных лагерях, когда там нет туристов. А масаи нашли себе новое развлечение, с которым я пока не нашел способа справиться. Буквально на текущей неделе к нам пришел один из масаи с рассказами о том, как какой-то бродячий павиан выскочил из кустов и прикончил его козу. В ходе допроса с пристрастием, которому мы его подвергли, всплыли явные нестыковки, так что стало ясно: павиан был не наш, а то и вовсе не было никакого павиана. Однако к полудню нагрянула пестрая делегация старейшин, которые упирали на серьезность дела и намекали, что удержать безутешного хозяина козы от ответного удара копьем — задача трудная и надолго их не хватит. Мне неизбежно придется уплатить за воображаемую козу и тем самым спасти некоторое количество павианов, но даже после этого масайские дети, обучаясь искусству держать копье, будут по-прежнему практиковаться на павианах и кабанах-бородавочниках, как только я уеду. Мы поторговались, я подавил в себе ярость, эхо которой осталось еще со времен туберкулезной эпидемии, и в тот же час вернулся к работе. И все же, даже несмотря на такой прагматизм и отстраненность, я тоскую по тем павианам.
Новое стадо дало мне интересный материал для исследований. Мне нравятся эти животные, но не более того, и каждый год я все меньше занимаюсь наблюдениями за поведением и все больше упираю на физиологию, отчасти потому, что мне не хочется узнать нынешних павианов слишком близко и привязаться к ним. Я уже не тот, каким сюда приехал впервые, и давно закончилась та пора жизни, на которую пришлись мои первые здешние шаги. Тогда я был двадцатилетним юнцом, и боялся разве только буйволов, и приехал сюда ради новизны ощущений, ради приключений, ради того, чтобы побороть собственные депрессии; и у меня был бесконечный запас любви, которой я одаривал все стадо павианов. Теперь, более двадцати лет спустя, я не меньше боюсь нестыковок в бюджетных отчетах по гранту и приезжаю сюда ради того, чтобы на свежую голову обдумать лабораторные эксперименты, добрать нужное количество сна и сбежать подальше от нескончаемых ученых заседаний. И хотя я по-прежнему тоскую по своим павианам, мой нынешний запас безграничной любви предназначен для Лизы и двух наших драгоценных детей, наших собственных Вениамина и Рахили — Бенджамина и Рейчел.
То первое стадо по-прежнему существует — небольшая горстка павианов, в тесной связке друг с другом добывающих пропитание и имеющих на удивление низкий уровень агрессии между собой. Их слишком мало, поэтому исследовать на них мне почти нечего, да и половины из них я уже не знаю. Моих прежних знакомцев — Руфи, Исаака, Рахили, Меченого — уже нет, из начального стада выжил лишь один. Каким-то чудом Иисус Навин умудрился не соблазниться туберкулезным мясом и потому уцелел во время мора. Кроме того, за исключением той богатой неожиданностями весны в период смутного времени, когда он успел недолго побыть альфой и затем поддерживал тогдашнего альфу Вениамина, он всегда избегал сражений, обходясь без ран от клыков и прочих увечий, которые в итоге доводят самца до гибели. Теперь он древний-древний старик, и его старший сын Авдий в каком-нибудь дальнем стаде уже наверняка вышел в тираж. Иисус Навин посиживает в окружении играющих детенышей, рассеянно приветствует каждую самку, его обходят агрессивные неуправляемые юнцы, при передвижении стада он методично плетется в самом конце — так что мы каждый раз волнуемся, не слишком ли он легкая добыча для хищников. Теперь, в старости, он то и дело выпускает газы в невероятных количествах. Он нисколько не дряхл, и его жизненная склонность к спокойствию с годами только усилилась.
В нынешнем году мы — с чувством вины и большим трепетом — анестезировали его шприц-дротиком: его данные были крайне важны для работы. Мы заботливо носились вокруг него, пока он отходил от анестезии, похрапывал, слегка исходил слюной и в изобилии выпускал газы. А когда пришло время выпускать его из клетки, он повел себя очень непривычно. Обычно, когда я вспрыгиваю на клетку поднять решетку и открыть выход, находящийся внутри павиан ревет, буйствует и вертится как сумасшедший. И когда дверь открывается, он либо пускается бежать со всех ног, либо — очень редко — пытается наброситься на меня, намереваясь растерзать.
В этот раз наклоненная клетка стояла позади дерева, и пока я подходил — Иисус Навин спокойно поглядел на меня с одной стороны от дерева, затем с другой, как в тех безумных переглядываниях с Вениамином много лет назад. Когда я вспрыгнул на верх клетки и начал отцеплять удерживающую веревку, он не двинулся с места, только через боковую решетку высунул руку вверх и накрыл ладонью мою ногу. А когда дверь открылась, спокойно вышел и присел поблизости.
Мы с Лизой поступили совершенно непрофессионально, но нас это не очень-то заботило. Мы сели рядом с Иисусом Навином и угостили его печеньем. Обыкновенными английскими крекерами. И угостились сами. Он ел медленно — осторожно брал каждый крекер самыми кончиками изломанных пальцев, беззубыми деснами откусывал по маленькому кусочку и задумчиво прожевывал, время от времени выпуская газы. Так мы сидели под согревающими лучами солнца, ели крекеры и смотрели на жирафов и облака.
| <<< Назад 28. Последние воины |
Вперед >>> Сноски из книги |
- Межклеточное вещество
- 04. На что влияет нагрев планет звездами, звезд Ядрами Галактик, Ядер Галактик Ядрами Сверхгалактик
- Список литературы
- Разные человечества
- Красные тучи, закрывающие солнце
- Московская белая
- Муравей, семья, колония
- Примерные рационы для котят от месяца до пяти и старше
- Голосеменные растения завоевывают мир
- Пароль скрещенных антенн
- Позор страны
- Что такое водопад?