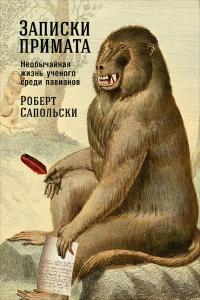Книга: Записки примата: Необычайная жизнь ученого среди павианов
28. Последние воины
| <<< Назад 27. А был ли старик? |
Вперед >>> 29. Мор |
28. Последние воины
В первый год моей жизни в буше мне пришлось изрядно попотеть в хижине Роды, исполняя безнадежную роль посредника между женской кликой Роды, сражающейся за оплату обучения детей в школе, и мужчинами, бьющимися за право тратить каждый шиллинг на выпивку. И вот теперь, почти пятнадцать лет спустя, мы с Лизой участвуем в церемонии, доказывающей, что сторона Роды победила и времена действительно меняются. Когда я только начал сюда ездить, до ближайшей школы было миль пятьдесят. Теперь же школа располагалась прямо у реки. Был последний день учебного года, и, чтобы отметить это событие, учитель Саймон устроил детям экскурсию. Отойдя на милю от школы, они перебрались через реку и пришли в лагерь посмотреть на Меченого, которого мы в тот день анестезировали. Дети (сплошь мальчики, за исключением дочери вождя) обступили павиана, сыпали вопросами, громко хихикали над его пенисом и непроизвольным опорожнением кишечника. Все они были в школьных шортах и свитерах. Я показал им, как брать кровь, Лиза продемонстрировала работу центрифуги. Вопросов задавали много: может ли павиан спариться с человеком, есть ли у них свой язык, пожирают ли они своих покойников. В завершение Саймон разразился нетривиальной мотивирующей речью, в которой хвалил детей за упорство, за то, что они проучились целый год, и призывал двигаться по тернистому пути знаний дальше, чтобы когда-нибудь тоже зарабатывать на жизнь изучением павианов. Дети были замечательные, воспитанные, увлеченные и благодарили нас на прощание, они отлично отметили завершение года, а я радовался, что поучаствовал. Дальше все оказалось безрадостно.
В тот сезон, когда Рода набросилась с поленом на пьяного Серере и разожгла великий спор об образовании, старшие братья предполагаемых школьников стали воинами, и я присутствовал на церемонии их посвящения. Лет до двенадцати масайские мальчики проводят в поле — пасут коров и коз, охотятся на птиц, добывают мед из диких ульев. Потом, после нескольких лет подготовки, в которой я ровным счетом ничего не понимаю, наступает воинский этап, который длится около десяти лет. Жизнь у них в этот период — военная и общинная. Воины живут вместе в отдельном помещении, питаются тоже всегда вместе. И только исполнив в течение положенного срока свой воинский долг, они становятся старейшинами — лет в двадцать пять, — берут себе первых жен (девочек лет четырнадцати), обзаводятся домом и детьми и ворчат, что нынче воины пошли не те.
И вот на упомянутой церемонии посвящения один воинский клан увольнялся, а другой заступал на службу. Несколько дней деревня пировала, выпивка лилась рекой. Будущие воины в головных уборах из птичьих перьев, символизирующих длинные волосы, которые им еще предстояло отрастить, устраивали экстатические пляски. Крики, метание копий, гортанный хор и солирующие фальцеты, напоминающие шансонье 1950-х, танцы, песнопения, в центре старейшины в звериных шкурах и охряном раскрасе. Меня охватило тревожное замешательство — последний раз я испытывал такое в восемь лет, когда впервые пришел один в синагогу на еврейский новый год и не понимал, что происходит. Старики сказали, что мне выпала честь открывать занавес, когда из ковчега будут доставать Тору, а я не знал, когда именно должен наступить этот момент, с какой стороны висит шнур, открывающий занавес, нужно ли мне что-нибудь говорить и почему я ничего не знаю о процедуре, и как раз, когда я уже собирался сбежать и расплакаться, кто-то из стариков взял меня за руку, подвел к ковчегу, открыл со мной занавес и сказал, что я молодец, а все остальные старики благодарили меня торжественным рукопожатием и я плавился от гордости. И вот теперь меня обуревала та же тревога — я не представлял себе процедуру, не знал, что позволено и что ожидается (если ожидается) от меня, что я вообще делаю на этом масайском сборище. И когда я уже собирался смыться под благовидным предлогом, кто-то из стариков — возможно, тот же самый, что и много лет назад в синагоге, — схватил меня за руку и втащил в круг, и стало понятно: пляши, как хочешь, все будет весело, забавно, похвально и правильно, и мы отплясывали до вечера, и я еще несколько недель чувствовал себя масаи, и это поколение воинов навсегда осталось «моими парнями».
Больше такие церемонии здесь не проводились ни разу. На землях масаи настал кризис. Правительство объявило воинов вне закона.
Поймите меня правильно. Я не собираюсь ратовать за консервирование культуры и создание живых музеев. При таком раскладе мне самому полагалось бы жить сейчас в польском местечке, зарабатывать починкой обуви и брать в жены сосватанную мне мастерицу резать кур по всем правилам обряда. Нет уж, увольте.
Мало того, я покривил бы душой, горюя об исчезновении воинов, потому что натерпелись здесь от них немало. В первые свои приезды я жил на дальней горе, и масаи были для меня редкими гостями с равнины. Как же я от них балдел в тот первый год! Я бы все отдал, чтобы стать масаи, пить кровь и молоко, знать прорву разных названий для коров и интересоваться коровами настолько, чтобы мне требовалась вся эта прорва, сохранять собственную гордость, не меняться, не поддаваться западным веяниям. Соирова выдал мне мое первое копье, и я упражнялся, пока не стер ладони в кровь. Я метал его в старую шину, лежавшую рядом с палаткой. Потом шину стали запускать через луг, и я должен был попасть, пока она катилась мимо. Потом следующий уровень — шина катится на меня и следующий — шина подкатывается со спины, отрабатываем предательское нападение сзади. Я чувствовал, как с каждым днем становлюсь худее, выше, чернее и костлявее.
Но в последующие годы, когда я переселился на равнину и стал жить в непосредственной близости от масайских деревень, нанизанных вдоль границы заповедника, мое отношение к масаи сделалось не таким однозначным. Я близко подружился с Родой и Соировой, так что с деревней мы обычно ладили неплохо. Но по большому счету мне открывалось то, что каждому африканскому земледельцу известно испокон веков: высокие костлявые пастухи — та еще боль в пятой точке. Как и их родичи динка, нуэры, тутси и зулу, масаи со своим скотом — или их часть — в силу своей склонности к грабительским войнам успешно терроризировали всю Африку. С незапамятных времен прославленные воины, устраивая набеги на земледельцев, грабили, разбойничали и угоняли скот. Масаи убеждены, что все коровы на свете принадлежат масаи и на чужие земли забрели по недоразумению, поэтому задача воинов — это недоразумение исправить. Соответственно, воинский долг заключается в том, чтобы сеять ужас среди чужаков. Иногда по-крупному: дед Ричарда и Самуэлли был заколот насмерть в собственной деревне во время масайского набега каких-нибудь десять лет назад, и их народ до сих пор строит жилища по традиционной антимасайской конструкции. А иногда на смену культовым, освященным временем межплеменным битвам приходят обычное хулиганство и бандитизм — до Ричарда воины начали докапываться в первый же месяц работы у меня и из чистого издевательства разбили ему бинокль. Воины заваливались в лагерь и, окинув беглым взглядом мой скарб, требовали сувениров, вынуждая меня отказывать человеку с копьем. Мелкое воровство, угрозы, принуждение туристских лагерей к сотрудничеству по всем законам рэкета: нанимайте масаи ночными сторожами, иначе… всякое может случиться, вдруг на вас возьмут и нападут масаи.
Если остальные развивающиеся страны постепенно впадали в подражание самым низкопробным проявлениям западной культуры, этот народ и родственные ему кочевые племена сохраняли свою красоту и величие, в том числе и за счет способности столетиями брести через чужую культуру и оставаться на выходе неизменными, неподвластными стороннему влиянию. Но, как я теперь понимаю, обязательным условием для такой невосприимчивости выступает глубочайшее презрение ко всем чужакам.
Остальная Кения, земледельческое большинство, меняется с космической скоростью — деньги, образование, западная одежда, часы, курсы по ремонту телевизоров, спутниковые ретрансляторы, мороженое, плакаты с лозунгами о вреде кариеса. Представьте себе этот сюр, это абсурдное смешение: какой-нибудь найробийский щеголь, передовой бизнесмен, приезжает навестить отчие пашни, а у них там, здрасте пожалуйста, масаи войной прошли. Ну как можно-то, на дворе не XIX век, у вас здесь и от язвы, что ли, ничего не продают?
И вот примерно после того, как масайские воины по всей реке, похватав копья, умчались в Танзанию отвоевывать своих коров, в парламенте свершилось нечто небывалое. Персоны в деловых костюмах при поддержке полиции, армии и прочих немыслимых институтов сотворили то, чего не могли добиться их деды луками и стрелами и что не снилось британцам даже в самых радужных империалистических снах: один росчерк на листе бумаги — и все, с воинами покончено. Только покажись с копьем или намазанными охрой волосами — и сидеть тебе в кутузке, а может, и штраф выпишет мировой судья с физиономией банту-земледельца под пудреным париком.
Как тут относиться однозначно? Я очарован воспоминаниями о воинах — теперь, когда из устрашающей действительности они стремительно превращаются в воспоминание. Но все остальные рады с ними покончить, я это вижу. Может, воинов нужно было сохранить, учредить какие-нибудь свирепые масайские Олимпийские игры и тем самым направить нерастраченную энергию в мирное русло: состязания сделать достаточно опасными, не пустяковой забавой, пусть в них гибнет примерно столько же молодых парней, сколько и прежде, когда воин должен был прикончить льва в подтверждение своей мужественности. Я читал, что такие игры довольно популярны у новогвинейских охотников за головами, соседствовать с которыми теперь несколько приятнее. Больше всего меня поразило, как быстро все покорились. К тому моменту, когда школьники притопали ко мне в лагерь хихикать над пенисом Меченого, воины уже остались в прошлом. А на мой вопрос, намерены ли они когда-нибудь податься в буш и убить льва, мальчишки презрительно зафыркали.
Конечно, покорились не все. Кризис на землях масаи связан с тем, что никто не знает, как быть со стариками, которые, окопавшись в буше, похищают мальчиков и втайне растят из них воинов. Об этом все знают и все молчат, и поди угадай — стыдятся ли этих стариков из буша или гордятся ими безмерно, окончательно выдохлись мятежники или все только начинается.
* * *
Примерно месяц спустя, уже после визита школьной экскурсии, мы с Лизой сидели в лагере, обрабатывая анестезированного Иисуса Навина, а рядом крутился один из наших любимых масайских ребят. Замечательный мальчик лет, наверное, двенадцати, все эти годы росший на моих глазах. Бритая голова; искусственно вытянутые по-масайски мочки ушей, которые он, правда, заворачивает, словно пытаясь спрятать. Под масайской накидкой — школьные шорты. Когда Лиза запускает центрифугу, он говорит на суахили: «Птица просыпается» — это устойчивое выражение, означающее запуск самолетного двигателя, с ним он сравнивает рокот центрифуги. Откуда он знает про самолетные двигатели? Он пускает мыльные пузыри, играет с подаренным воздушным шариком, и вот ему уже пора гнать коров домой. Мы видим, как он перебирается через реку и сворачивает к полю за лагерем, и тут, откуда ни возьмись, налетает отряд воинов. У них копья, длинные выкрашенные охрой волосы, сами они — орда головорезов и прекрасно это знают. Мальчишка кидается бежать, но его окружают в два счета. Он сопротивляется. Его пытаются схватить, оторвать от земли, он молотит руками и отбивается, пока не получает по голове и, по всей видимости, теряет сознание. Его уносят. Мы видим их на горизонте, их тонкие длинные ноги в знойном мареве кажутся еще длиннее и чужероднее. Мальчишку утаскивают в буш, делать из него воина. С тех пор мы его не видели.
| <<< Назад 27. А был ли старик? |
Вперед >>> 29. Мор |
- Последние годы
- 715. Сколько китов добывали в последние годы американские китобои?
- Часть I. Что случилось за последние 100 лет?
- И последние станут первыми
- «Последние из могикан» каменного века
- ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
- Последние события
- Последние годы жизни
- Путешествие в Сибирь и последние годы жизни Брэма
- Из истории почв
- Спасти леопарда
- Покорение Европы