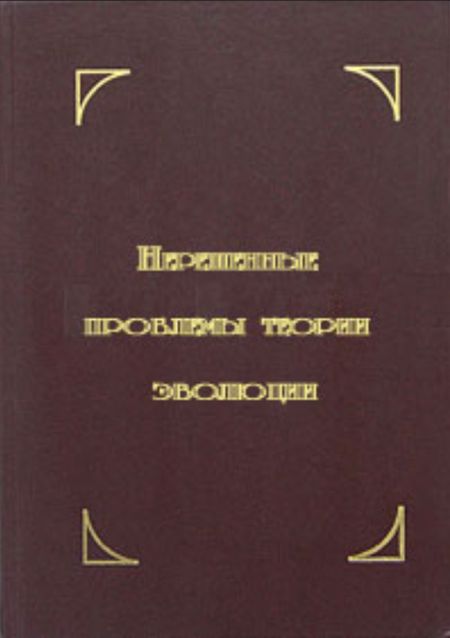Книга: Нерешенные проблемы теории эволюции
ЗАКОНЫ И ОБЪЯСНЕНИЯ
| <<< Назад НАУЧНОСТЬ ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ |
Вперед >>> ЭВОЛЮЦИОНИЗМ В ПОЗНАНИИ |
ЗАКОНЫ И ОБЪЯСНЕНИЯ
Р. С. Карпинская [1984, с. 42] отмечает, что «проблема „физика — биология“ в равной мере важна как для биологии, физики, так и для понимания современных тенденций развития научного познания, воздействующих на образ науки как исходную предпосылку философского ее исследования». Исстари и по сей день образцовой наукой считается физика [Волькенштейн, 1980], биология же как будто отстает по части аксиоматизации, общих законов, теоретичности в широком смысле. В той и другой осмысление действительности предполагает абстрагирование, обобщение, но в физике этот процесс продвинулся гораздо дальше, чем в биологии, и перешел в новое качество — исследование идеальных объектов вроде материальной точки, для которых конструируется идеальная среда математических пространств (следует, видимо, отличать абстрагирование от идеализации: при абстрагировании мы исключаем из рассмотрения какие-то свойства, при идеализации — вводим заведомо несуществующие свойства, например свойство не иметь пространственной протяженности; это различие, кажется, не было в полной мере осознано номиналистами, считавшими все «сущности» лишними).
Таким образом, над физическим миром, подобно воздушному замку, вырастает платонический мир идеальных вещей и суждений о них. Аксиомы и универсальные законы в строгом смысле — это суждения о несуществующих идеальных вещах. Вопрос об их принадлежности физике или метафизике спорен (хотя строго универсальные законы, как и метафизические представления, недоказуемы, их научность, по К. Попперу, определяется принципиальной возможностью опровержения, которой метафизика не располагает; значит, научность универсальных законов парадоксальным образом принимается на том основании, что они в принципе могут оказаться не универсальными). Не случайно «законность» как в физике, так и в биологии особенно активно пропагандировали теологи (в частности У. Пэйли, иысмеявший Э. Дарвина). В классической квантовой физике категоричность универсальных законов классической механики оказалась значительно ослабленной. В современной физике элементарных частиц с такого рода законами дело обстоит почти так же плохо, как в биологии. В субатомном мире оказалось невозможным полностью игнорировать разнокачественность объектов (которые не удается индивидуализировать одной лишь локализацией и пространстве), системность — зависимость свойств от отношении и ее неизменный атрибут — историчность. Поскольку все что классические свойства биологических объектов, то физика элементарных частиц поневоле подверглась заметной «биологизации». Попытки классификации элементарных частиц привели к появлению и физике понятия категории, заменившего неподходящее для индинидуализирован-яых эволюционирующих объектов понятие множества. Это случилось в пятидесятых годах нашего века, т. с. через 200 лет после того, как М. Адансон ввел категорию и биологическую классификацию (Адансон памятен своим принципом равноценности признаков; его более серьезное достижение понятие категории, допускающее, в отличие от множества, изменение диагностических свойств при сохранении определенного отношения между объектами и открывающее возможность перехода к эволюционной систематике — игнорировалось настолько, что физикам пришлось открывать категорию заново, а биологи и по сей день парадоксальным образом ориентируются на совершенно неподходящую для их целей теорию множеств).
Очевидно, для субатомной физики выход из переживаемых ею сейчас затруднений будет связан с дальнейшей «биологиза-цией»— нахождением механизма эволюции элементарных частиц, причин и общей направленности этого процесса. Иначе говоря, здесь нужен свой Дарвин, а ждут, кажется, нового Ньютона. Несмотря на разочарования последних лет, физики все еще видят единственно возможный путь построения теории во взаимодействии между физическим миром реальных объектов и платоническим — идеальных объектов и пространств. Причем если в прошлом идеальный мир имел как бы подсобное значение, онтоло-гизируясь в материальном, то сейчас, кажется, произошла обычная для далеко зашедших эволюционных процессов переоценка ценностей: отображение в идеальном мире рассматривается как необходимое условие «онтологизации» физических теорий. В этом смысле биологических теорий не существует (идеальные объекты вроде менделевской популяции, наделенной не существующим в природе свойством панмиксии, и суждения о них типа закона Харди — Вайнберга затрагивают лишь частные аспекты теории эволюции). Но в самом ли деле такой путь теоретизирования единственно возможный или же это вчерашний день развития науки?
Скрытая за ироническим сопоставлением биологии с собиранием марок (Резерфорд) эпистемологическая позиция заключается в том, что к области науки относятся лишь повторяющиеся, воспроизводимые явления. Единичное, уникальное — это область коллекционера редкостей, а не ученого. Жизнь пока известна только на одной планете, биосфера существует в единственном экземпляре, каждый организм уникален, эволюция совершалась единожды и необратима. Биология имеет дело с неповторимым и, следовательно, представляет собой род деятельности, стоящий ближе к коллекционированию, чем к аналитической науке, каковой является в первую очередь физика. В определенном ракурсе возникает впечатление, что даже само развитие биологии в корне отличается от развития физики. В биологии происходит опровержение и отбрасывание отживших теорий (например, теории Ла-марка), тогда как в физике новые теории не опровергают старые, а лишь указывают пределы их применимости.
Одно из возможных возражений, как мы уже говорили, заключается в том, что организмам, наряду с индивидуальным, свойственно общее повторенное в каждом из них, что эволюция органического мира в целом состоит из огромного множества эволюционных линий, которым в той или иной степени свойственны параллелизм, многократное повторение однотипных событий и т. д. Можно также протестовать против гносеологического редукционизма, настаивая на несводимости одной области знаний к другой, на принципиальном различии методологических установок физики и биологии, имеющей дело с неизмеримо более сложными явлениями, требующими особого, более индивидуализированного подхода, не умаляющего научности.
По мнению автора, однако, традиционные сомнения в научности биологических теорий, как и традиционные попытки развеять их, не отражают существа дела, которое заключается в противоречии между историческим и внеисторическим подходами. В биологии историзм утвердился в середине прошлого века, в физике первые ростки его появились лишь в начале нынешнего и пока с большим трудом пробивают себе дорогу. На самом деле принципиального различия между уникальностью биологических явлении и повторяемостью физических, по-видимому, не существует: любое историческое событие уникально. Конечно, биологу легче понять это благодаря ярче выраженной индивидуальности его объектов (хотя вирусы одного штамм. ч кажутся вполне идентичными и лишь очень тонкие исследования могут вскрыть их индивидуальность). Физик же находится и положении человека, впервые попавшего в толпу инопланетян и считающего, что все они на одно лицо. Ясно, однако, что если Вселенная эволюционирует и время связано с развитием, а нс течет само по себе, то, как бы ни обстояло дело на практике, теоретически два последовательных аналогичных события нетождественны.
Более того, наличие истории является главным и, может быть, единственным критерием существования. Ученый, исследующий явления, которые не имеют истории (флогистон, например), не может быть уверен в том, что они на с. чмом деле существуют. Противоречия между моделями познания и физике и биологии также, по-видимому, связаны с различным ощущением историзма. Классическая физика рассматривала свои объекты и сам аппарат познания как неизменные. Законы устан. жлиналнсь навечно. События начала XX в., казалось бы, убеждали в обратном, но их удалось интерпретировать таким образом, что успокоительная незыблемость классической физики была спасена: никаких опровержений, разве что «включение в качестве частного случая», «определение границ» и т. п. В действительности о включении ньютоновского абсолютного времени в теорию Эйнштейна можно говорить лишь в том смысле, в каком гелиоцентрическая модель Коперника «включает» геоцентрическую модель Птолемея (в конце, концов Луна вращается вокруг Земли, а в границах практического опыта человека, загорающего на пляже в погожий день. Солнце и правда идет по небу с востока на запад). Пожалуй, даже больше оснований говорить о включении теории Ламарка в теорию Дарвина, поскольку сам Дарвин допускал действие ламарковских факторов, и даже синтетическая теория эволюции может использовать их для объяснения модификаций («частный случай»).
В общем можно говорить скорее о неодинаковом эмоциональном восприятии аналогичных событий, чем о принципиальных различиях в развитии физических и биологических теорий. Те и другие претерпели ряд параллельных революций, смысл которых заключался в низведении с пьедестала метафизических («лишних») сущностей, вроде ньютоновского абсолютного времени или ламарковского абсолютного стремления к прогрессу, и замене их историческими объяснениями.
Разногласия по поводу теорий объясняются тем, что теоретическое мышление эволюционирует слишком быстро по отношению к смене поколений. Не так уж много поколений отделяет И. Ньютона с его «гипотез не фабрикую» от А. Эйнштейна, который вообще не видел пути от наблюдений к теории. Классическая физика формировалась под влиянием идей Пифагора, отождествлявшего разум со счетом, Р. Декарта с его пристрастием к аксиомам и Г. Галилея — Ф. Бэкона — И. Ньютона, исповедовавших различные варианты индуктивизма. Развитие теории, предопределенное врожденными идеями, по Декарту, или врожденным способом мышления, по Канту, шло по накатанной колее, от абсолютных истин через наблюдение и обобщение к абсолютным истинам следующей инстанции. И не только в физике, но и (может быть, в не столь отточенных формах) в других науках, включая биологию. Те, кто сетует на отсутствие биологических законов, плохо знают историю додарвиновской биологии, которая кишела законами (были законы Бэра, Жоффруа Сент-Илера, Агассиса, Ламарка, затем, как рецидив. Копа, Долло, Менделя, самого Дарвина и т. д.). Казалось, подтверждается мысль Канта о том, что подобный способ теоретического мышления для человека — извечный и единственно возможный. Но, в противоположность этому, эволюционный подход помогает увидеть в извечном продукт исторического развития. В самом деле, умение распознавать зако-нообразные связи между явлениями и некоторая способность к счету присущи и животным. Человек может гордиться лишь количественным развитием этих свойств, приспособительное значение которых очевидно: они открывают возможность предвидения и тем самым способствуют выживанию. Волчья стая, которая на основании неоднократных наблюдений вывела закон, связывающий неожиданное появление мяса с запахом человека и болью в желудке, повысила свои шансы на выживание, по крайней мере до тех пор, пока охотник не изменит тактику. А тогда уже придется принести новые жертвы, чтобы вывести новый закон. Избежать жертв помогло бы понимание (объяснение) связи между явлениями, но волкам оно не под силу. Мышление животных метафизично. Впрочем, физики, выведя закон всемирного тяготения, не только не стремились к пониманию природы гравитации, но и активно противились попыткам объяснения этого явления как покушению на святыню святынь.
Такое, в сущности, религиозное отношение и порождает аксиомы. Убеждение в необходимости аксиом как отправного пункта при построении теории восходит к средневековому мышлению, черпавшему абсолютные истины из Библии. Декарт пытался вывести абсолютную истину схоластическим способом. Его «мыслю, значит существую» (неопровержимая истина, так как «не мыслю»— тоже мысль) — вовсе не гимн разуму, а лишь свидетельство того, что унаследованное от животных предков метафизическое мышление пустило глубокие корни.
Известный закон необратимости эволюции выведен бельгийским палеонтологом Л. Долло, парадоксальным образом, на основании обратимого появления — утраты панциря у черепах, переселяющихся из воды на сушу и обратно Долло заметил однако, что вновь обретенный панцирь отличается от утраченного, и, следовательно, — полной обратимости нет. До него Дарвин посвятил целый раздел «Происхождения видов» обстоятельному обсуждению необратимости. Он показал, что воспроизведение утраченных признаков — обычное явление (в силу сохранения латентных потенций генома, как сказали бы мы сейчас), но повторно появившиеся признаки неидентичны исходным по причине изменения наследственности (эволюции генома). Хотя рассуждения Дарвина дают несравненно больше пониманию природы необратимости, чем закон Долло, последний легко нашел путь в учебники дарвинизма, тогда как о Дарвине в этой связи не вспоминают. В отличие от своих предшественников Кювье, Бэра, даже Ла-марка— Дарвин последовательно стремился к эволюционным объяснениям, а не выведению фиксированных законов. Лишь в последнем абзаце «Происхождения видов» он называет ряд законов, но этот абзац вообще выбивается из общего стиля книги. Сначала в сентиментальной манере описывается берег, поросший разными растениями, с птичками, поющими в кустах, и т. п. Эта благостная картина навевает мысли о законах
1) роста с размножением;
2) наследственности, «почти» сопряженной с размножением;
3) изменчивости от косвенного и прямого действия условий существования, а также упражнения и неупражнения;
4) темпов прироста, столь высоких, что они ведут к борьбе за существование и, следовательно, к естественному отбору, влекущему за собой расхождение признаков и вымирание менее усовершенствованных форм (считаю нелишним напомнить эти законы, так как их. потом часто открывали и продолжают открывать заново; и пределах, поставленных эволюцией, они действуют с непреложностью законов классической физики: благодаря закону наследственности мы можем не сомневаться в том, что корова родит теленка, а не какое-нибудь другое животное). Далее упоминается Творец и «фиксированный закон тяготения»— все для успокоения читателя, взращенного на метафизике. Но читатель не успокаивался. Снова и снова обвиняя Дарвина в «беззаконии», он рвался во вчерашний день — к «эволюции на основе закономерностей».
Несмотря на такого рода сопротивление, исторические объяснения постепенно пролагали себе путь от биологии к лингвистике (впрочем, имеющей некоторые права на приоритет в эволюционном подходе), социологии, химии и астрономии. Дж. Дарвин, отдавая дань отцу, писал об эволюции Земли как физического тела. Его работы нанесли существенный удар униформизму в геологии.
В физике революция, сопоставимая с дарвиновской, началась лишь в XX в. и еще далеко не завершена. Речь идет не о выдвижении новых законов — это скорее продолжение старой традиции, а о том, что была вскрыта м-етафизичность абсолютного времени, ньютоновской гравитации, других категорий классической физики и поставлена задача их исторического объяснения. Может быть, не без влияния дарвинизма создавались первые эволюционные модели Вселенной (не решаюсь утверждать этого о А. Фридмане, но отношение Л. Больцмана к Дарвину хорошо известно).
Стремление к объяснению присуще человеческому сознанию, как мы уже говорили, это его качественно новое приспособительное свойство, и вопрос «почему», естественно, задавался задолго до Дарвина. Однако вплоть до XIX в… объяснения касались не столько причинно-следственных отношений, которые по самой природе своей историчны, сколько выявления скрытых сущностей: тела притягиваются друг к другу потому, что на них действует сила тяжести; жизнь развивается прогрессивно, так как прогресс — это основной закон эволюции; организмы приспосабливаются к среде, потому что приспособляемость — особое свойство живого; они делятся на виды, поскольку живой материи присуща нидовая форма организации и т. д. Так и появились в изобилии «лишние сущности», против которых предостерегал средневековый философ Оккам. Он, однако, не оставил руководства по эксплуатации своей знаменитой «бритвы», и только благодаря историческим объяснениям мы узнали, какие сущности в самом деле лишние.
Как и в других случаях, для объяснения природы объяснений мы должны обратиться к истории. У Аристофана в «Облаках» есть примечательный диалог между Сократом и его новым учеником.
Стрепсиад: Ну, а Зевс? Объясни, заклинаю Землей, нам не бог разве Зевс Олимпийский?
Сократ: Что за Зевс? Перестань городить пустяки! Зевса нет.
Стрепсиад: Вот так так! Объясни мне, кто же дождь посылает нам? Это сперва расскажи мне подробно и ясно.
Сократ (показывая на облака): Вот они. Кто же еще? Целый ворох тебе приведу я сейчас доказательств. Что, видал Ты хоть раз, чтоб без помощи туч Зевс устраивал дождь? Отвечай мне? А ведь мог бы он, кажется, хлынуть дождем Из безоблачной ясной лазури.
Стрепсиад: Аполлон мне свидетель, отличная речь! Ты меня убедил. Соглашаюсь. А ведь раньше и верно я думал, что Зевс сквозь небесное мочится сито. Но теперь объясни мне, кто же делает гром? Я всегда замираю от грома.
Сократ: Вот они громыхают, вращаясь.
Здесь мы видим становление объяснения, так сказать, in statu nascendi. Человек сравнительно недавно научился делать вещи, активно воздействовать на окружающее. Поэтому первая мысль при столкновении с непонятным — кто-то сделал это. Но кто? Не я и не ты, вообще не человек, следовательно— сверхчеловек. Это мифотворческая стадия, выражение сущности путем персонификации. Если поведение сверхъестественной силы кажется не вполне логичным, то можно предположить, что она и не подчиняется человеческой логике, как говорят, неисповедима.
Мифотворческие объяснения древних народов удивительно похожи на те, которые, наверное, каждый из нас дает самому себе во сне, когда часть мозга заторможена, и которые кажутся такими странными после пробуждения. По мере развития («пробуждения») разума персонификация уже не приносит удовлетворения, «неисповедимость» сверхъестественной силы становится досадным препятствием на пути объяснения. Наступает прозрение, которое мы обозначим как прозрение I: это не сделано кем-то, а проистекает из скрытой сущности вещей. Персонификация сменяется субстанциализацией.
В приведенном выше примере Стренсиад, хотя и привычно склоняется к персонификации, уже близок к прозрению I и нуждается лишь в небольшом толчке извне. Нсли бы Сократ пояснил, что причиной дождя является не Зевс, а скрытое свойство облаков давать дождь — дождливость, или плювитация (по аналогии с гравитацией), то Стрепсиад, думается, был бы вполне удовлетворен. Во всяком случае такие объяснения продержались в течение многих веков.
Хотя субстанциализация как будто отрицает персонификацию и гасит энтузиазм первобытного творца (это сделал я, остальное — бог), в действительности та и другая несомненно связаны с классифицирующей деятельностью рассудка и попытками истолковать родовые понятия. В первом случае все конкретное трактуется как эманация скрытой сверхъестественной личности, более или менее неисповедимой, во втором — как эманация скрытой сущности, возможность приникновения в которую также ограничена (европейская наука, взращенная на платонизме, вплоть до XIX в. не ставила подобной задачи; более того, посягновение на скрытые сущности считалось проявлением нескромности ученого и даже могло быть истолковано как лженаука).
У Аристофана Сократ (наделенный некоторыми чертами Анак-сагора и Диогена) пропускает эту стадию. Может быть, поэтому его объяснение дождя и грома, несмешное сегодня, смешило древних афинян (задачей Аристофана было осмеяние Сократа; он знал свою аудиторию). Сократ смело переходит к третьей стадии, когда скрытые сущности оказываются лишними сущностями. Это прозрение II, опередившее свое время на многие сотни лет.
Прозрение II еще не вполне наступило в отношении таких скрытых сущностей, как атомы Демокрита, виды Линнея или гены Менделя, хотя мы уже знаем, что они поддаются расшифровке и выведенные для них законы нуждаются в объяснении.
Отношения объяснений и законов не столько дополнительны, сколько антагонистичны. Объяснение чаще всего превращает закон в трюизм (Демокрит, обнаружив, что некоторые финики имеют медовый привкус, захотел выяснить, какая тут существует закономерность; служанке стало жаль его трудов, и она созналась, что держала финики в кувшине из-под меда). Исторические объяснения завоевали права гражданства в науке лишь на рубеже XIX и XX вв. С ними связано развитие творческого начала в научном мышлении. Известно, что законы выводятся из наблюдений, а из чего выводятся объяснения? Ответ, как правило, ищут в области иррационального, да и сам вопрос выдает традиционное неверие в творческие возможности разума. В отличие от закона, объяснение ни из чего не выводится. Это творческий акт разума, по отношению к которому внешние обстоятельства — не более чем стимул.
Разумеется, объяснения возникают не на пустом месте, плодотворный творческий процесс в идейном вакууме не идет. Питательной средой для них служит вся культура, причем на первом плане могут оказаться неожиданные ее элементы, как будто не имеющие отношения к науке. Научная парадигма, давая образцовое решение ряда проблем, указывает возможные направления исследований в еще не освоенных областях — в этом ее основное достоинство. Продвигаясь в указанных направлениях, ученые делают в какой-то мере запланированные или во всяком случае укладывающиеся в наличную концептуальную схему открытия. Такого рода открытия не называют поразительными. Поразительные открытия происходят под влиянием внепарадигменных, зачастую вообще вненаучных — эстетических, метафизических — представлений. Отвращение к нематериальному взаимодействию, как и убеждение в разумном устройстве мироздания, в том, что бог не может систематически обманывать, равно свойственные Декарту и Эйнштейну, позволяют усмотреть идейные истоки эйнштейновской революции в картезианстве — давнем и, казалось бы, поверженном конкуренте ньютонианской парадигмы. Научное творчество Дарвина, вероятно, испытало влияние художественного романтизма, показавшего дикую природу взвихренной напряжением противоборствующих сил. Менделя с его пристрастием к точным наукам могли навести на мысль о невидимых частицах наследственности — «зачатках», впоследствии генах — споры вокруг атомистической теории Дальтона [Managhan, Corcos, 1983] в сочетании с августинским культом сверхчувственного.
Непосредственным импульсом творческого процесса может быть неожиданное наблюдение (примеры общеизвестны), но лишь в том случае, когда оно падает на благоприятную идейную почву.
Для многих побудительной силон было недоверие к здравому смыслу, к общепринятым взглядам, которое проповедовал Пар-менид, а в новые времена — Нильс Бор.
В прошлом роль научного творчества значительно принижалась, так как назначение ученых виделиi главным образом в том, чтобы раскрывать достоинства божественного творения. Возможности собственного творчества были ограничены исходными аксиомами, предопределявшими развитие теории. Впрочем, и сейчас еще многие считают, что теории надо строить на прочном фундаменте точного знания, а не на зыбком песке предположений. Но научная теория — не здание, возводимое по утвержденному проекту. Ее скорее можно уподобить живому сообществу, развитие которого действительно можетi начаться на зыбком песке при условии, что первые вселенцы закрепляют его и подготавливают почву для более высоко организованных форм. На этом пути неизбежны потери и простои. Объяснительная функция еще молода, несовершенна и не обладает безошибочностью стереотипного мышления. Поэтому и говорят, что человеку свойственно ошибаться.
| <<< Назад НАУЧНОСТЬ ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ |
Вперед >>> ЭВОЛЮЦИОНИЗМ В ПОЗНАНИИ |
- Объяснения парадоксов
- XVII.3 Псевдонаучные объяснения околосмертного состояния
- Перечень терминов с краткими объяснениями
- Заключение
- Глава I МЕСТО ЗЕЛЕНЫХ РАСТЕНИЙ В КОСМОСЕ И ЗНАЧЕНИЕ ИХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
- Лечебная хореография
- Вирус мозга?
- Кошки и собаки
- Предисловие
- Глава 3. Великий симбиоз
- Не в ногу со временем