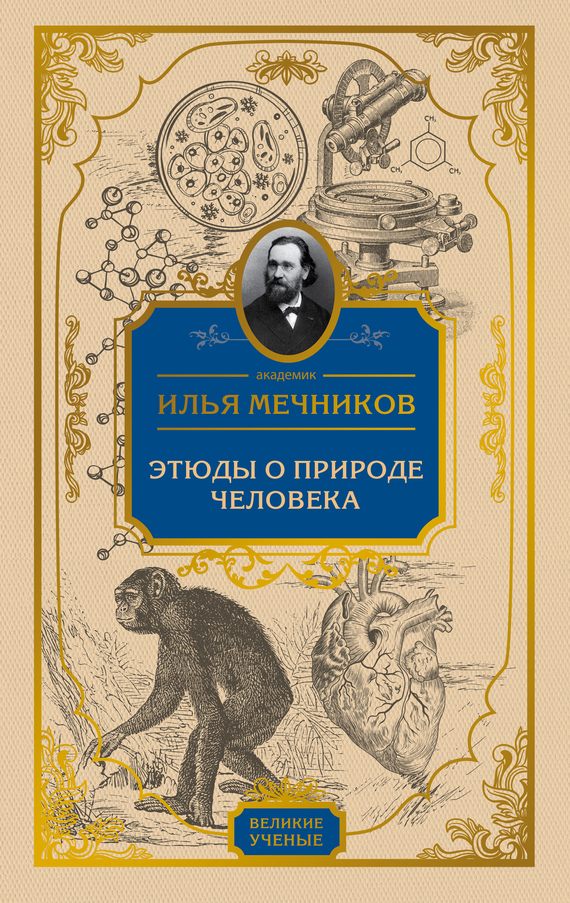Книга: Этюды о природе человека
Предисловие ко второму изданию
| <<< Назад Предисловие к первому русскому изданию |
Вперед >>> Предисловие к третьему изданию |
Предисловие ко второму изданию
Вскоре после выхода третьего издания моих «Этюдов о природе человека» появилась надобность и во втором издании «Этюдов оптимизма». Это обстоятельство рядом с другими, несравненно более крупными и важными, по-видимому, указывает на то, что в России после бури наступила потребность серьезного и спокойного обсуждения главнейших вопросов человеческого существования.
Недавняя попытка снова взволновать российское юношество и отвлечь его от научной работы не увенчалась успехом: и аудитории, и лаборатории остаются переполненными молодежью, жадно ищущей знания.
Я живо помню то время, когда в русских университетах боролись два течения. Это было в первое время царствования Александра II. Под влиянием Запада в России пробудилось усиленное стремление к науке. В ней предполагался ключ к разрешению всех основных задач, волнующих людей. Многие из юношества с жаром бросились на изучение главным образом естественных наук. Но рядом с этим обрисовалось и стремление к политической деятельности. В университетах и даже в гимназиях усердно распространялись запрещенные сочинения и молодежь призывалась к усиленной пропаганде. Мне самому пришлось стать лицом к лицу с этим течением, и я помню, как, будучи шестнадцатилетним юношей, еще не кончив гимназического курса, я получил письмо из-за границы, с внушением никоим образом не соглашаться на провозглашение конституции в России, а немедленно требовать республики.
Убеждение в том, что занятие положительной наукой может принести больше пользы России, чем политическая деятельность, отвернуло меня от последней. Пребывание за границей, где мне пришлось стать очень близко к главным источникам политической агитации русских революционеров, еще более утвердило меня в моем убеждении. С тех пор прошло около полустолетия, и теперь легко сравнить плоды протекшей с тех пор научной и социально-политической деятельности. Рядом с поразительными успехами положительного знания как в области теории, так и в сфере практического приложения ее стоит толчение на одном месте попыток создания нового общественного строя.
По-видимому, борьба между двумя течениями умственной жизни теперь серьезно склонилась в пользу науки. Но следует ли поэтому думать, что «целью нашей деятельности должно быть искание истины и что последнее есть единственная цель, достойная первой», как провозглашает Пуанкаре?
Мысль свою он поясняет следующим образом: «Нет сомнения в том, что прежде всего мы должны стремиться к облегчению человеческих страданий, но зачем? Отсутствие страданий составляет лишь отрицательный идеал, которого всего вернее можно было бы достигнуть уничтожением вселенной. Если мы стремимся все более и более освободить человека от материальных забот, то это делается для того, чтобы он мог употребить завоеванную свободу для изучения и созерцания истины» («La valeur de la science», стр. 1). «Истины нечего бояться, так как лишь она одна прекрасна» (стр. 2).
Но что такое «истина», по определению знаменитого французского физико-математика? Прежде всего он под этим разумеет «истину научную», «но я имею в виду, – говорит он, – и нравственную истину, одним из видов которой является то, что называют справедливостью» (стр. 2).
Эти обе истины не могут быть разъединены. «Нравственность и наука имеют каждая свою собственную область; обе они соприкасаются, но не проникают друг в друга» (стр. 3). Поэтому, думает Пуанкаре, «не может быть безнравственной науки», равно как не может существовать и научная нравственность. «Если науки боятся, то это главным образом потому, что она не может дать нам счастья. Это, очевидно, так: наука действительно не может нам дать его, так что можно поставить вопрос: не страдают ли животные меньше, чем человек?»
«Человек не может быть счастливым благодаря науке, но в настоящее время он еще менее может быть счастливым без нее» (стр. 4). Следовательно, наука дает все-таки счастье, по крайней мере в некоторой степени, если без нее счастье невозможно. Если к тому же она облегчает человечество от страданий, так признает и Пуанкаре, то роль ее становится еще более важной. Это облегчение вовсе не следует считать лишь «отрицательным идеалом», так полагает знаменитый математик. Отсутствие страданий, т. е. пользование полным здоровьем, составляет очень положительное благо, которое все более и более чувствуется с годами и которое составляет основное условие пользования другими благами. Поэтому столь часто высказываемое и повторяемое Пуанкаре положение, что наука не может дать нам счастья, не должно быть принято как общее правило. Лишь в некоторых случаях знание, будучи беспомощным в настоящем его виде, может стать источником несчастия, но легко усмотреть, что это состояние лишь временное, которое должно измениться, когда наука достигнет большей степени совершенства.
Неверна также и та сделавшаяся почти общепринятой мысль, что животное счастливее человека. Вопрос этот, разумеется, очень трудно решить сколько-нибудь положительно, так как нет возможности точно сравнивать чувства и ощущения животных и человека. Но можно сравнивать различные чувства и ощущения самого человека. При этом оказывается, что у многих людей счастье, доставляемое наукой и решением научных задач, неизмеримо выше счастья, на которое способны животные и которое доставляется им чувством утоления голода и других потребностей.
Сознание неизбежности смерти, которого лишены животные и которое так часто делает людей несчастными, есть зло поправимое и именно благодаря науке. Более чем вероятно, что она научит жить сообразно принципам ортобиоза и доведет жизнь до момента наступления инстинкта естественной смерти, когда не будет страха перед неизбежностью конца.
Наука может и должна в будущем даровать людям счастливое существование. Но отсюда не следует, чтобы искание истины было единственной целью нашей деятельности, как думает Пуанкаре. Когда наука обеспечит человечеству нормальный цикл жизни, когда люди забудут большинство болезней, подобно тому как они могут не тревожиться теперь из-за чумы, холеры, дифтерита, бешенства и других бичей, до последнего времени угрожавших им, тогда на первый план еще более, чем теперь, выступит искание удовлетворения высших потребностей душевной жизни. Но наряду с исканием знания ради высшего наслаждения, т. е. наряду с «наукой для науки», человечество еще более теперешнего будет искать счастья в наслаждении всяческой красотой, т. е. в «искусстве для искусства».
Но для достижения подобного идеала, предвидимого в будущем, необходимо прежде всего рационально обосновать нормальное естественное существование, ради которого трудится положительная наука. Можно надеяться, что достижению этой цели будет посильно содействовать учение, излагаемое в предлагаемой читателю книге. Являясь дальнейшим развитием «Этюдов о природе человека», эти «Этюды оптимизма» касаются многих подробностей биологического мировоззрения. Со времени первого издания этих очерков было добыто несколько новых данных, которые подтверждают высказанные в них положения. Это потребовало немало изменений в первоначальном тексте. Но, кроме того, появились и возражения, требующие ответа. Между ними первое место занимает брошюра Рибберта о естественной смерти, в которой автор старается опровергнуть мою теорию старческих изменений тканей и участия в ней макрофагов. Разбору этих возражений я должен был посвятить целую главу этой книги.
Я думал сделать то же и по поводу брошюры, напечатанной бывшим земским врачом К. К. Толстым под заглавием «Корни беспросветного пессимизма» (С.-Петербург, 1909 г.). В ней автор разбирает по главам оба мои сочинения и пункт за пунктом старается опровергнуть высказанные в них положения. Автор имел любезность прислать мне экземпляр своей брошюры, снабдив ее надписью, в которой он характеризует свою критику «серьезною». Ввиду этого я прочитал ее до конца и считаю нужным ответить на сделанные мне возражения.
К. К. Толстой выбрал эпиграфом ссылку из «Манфреда» Байрона, что «древо познания не есть древо жизни». Слишком проникнутый этой мыслью, мой критик очень нецеремонно обращается с данными науки и часто обнаруживает незнание ее. Для примера приведу его утверждение об общих клоаках у полипов и сифонофор (стр. 145), что совершенно не соответствует действительности: таких клоак у этих животных не существует. Мною они были упомянуты по отношению к сложным асцидиям, т. е. к животным, далеко отстоящим от полипов и сифонофор. Столь же неверно смешение кишечных ядов с птомаинами, которого, разумеется, нельзя нигде найти в моих книгах. Я привожу эти ошибки моего критика не в качестве придирки к его учености, а как образчик небрежного отношения к предмету, о котором он пишет. Эта небрежность проявляется у него на каждом шагу, и притом по отношению к вопросам, имеющим гораздо большее значение, чем общая клоака.
Вот, например, вопрос о естественной смерти – один из наиболее существенных из числа трактуемых в моих этюдах теоретических вопросов. Мой критик приписывает мне совершенно нелепую мысль, будто естественная смерть «беспричинна» (стр. 82, 120), и возражает на это: «Можно ли допустить смерть беспричинную?» И поучает: «Без всяких причин смерть последовать не может». Само собой разумеется, что я не только нигде не заикался о возможности беспричинной смерти, но даже не мог и думать о чем-либо подобном, до того это идет вразрез со здравым смыслом и со всем моим мировоззрением. Критик или невнимательно прочитал мои сочинения, или же не понял сказанного мною. Первое предположение мне кажется более правдоподобным, так как я сколь возможно ясно изложил свои мысли. Оно подтверждается также другими его рассуждениями о моей теории естественной смерти. Так, например, он мне приписывает утверждение, будто «естественная смерть растения обусловливается издержанием всех органических сил, в нем заложенных» (стр. 124), и даже приводит в подтверждение цитату из французского текста этих этюдов, а затем упрекает меня в противоречии. В действительности же я говорю, что, несмотря на правдоподобность такого предположения о причине естественной смерти, оно не соответствует действительности, и потому я отбрасываю его, а останавливаюсь на самоотравлении организма. Понять это так легко и в моей книге мысль моя развита до того просто и ясно, что ошибку моего критика должно отнести к небрежному его отношению к рассматриваемому предмету.
Продолжая свои рассуждения о естественной смерти, Толстой доходит до утверждения, что «действительно умирает – у гусеницы то, что входит в состав куколки, у яйца – скорлупа, у желудя – внешняя оболочка» (стр. 127). Мой критик, как видно из этой цитаты, не имеет представления о том, что делается во время превращения насекомых, и считает, что яйцевая скорлупа умирает, будто она когда-либо состояла из живых частей, т. е. клеток или их производных, содержащих живое вещество – протоплазму.
Не лучше справляется мой критик с задачей, когда дело касается не теории, а вопроса, имеющего практическое применение. По поводу моих указаний об употреблении в пищу молочнокислых бактерий для воспрепятствования кишечному гниению он постоянно колет мне глаза утверждением, будто я всем и каждому советую есть «простоквашу», и делаю это потому, что я «увлекся случайно попавшим ему на глаза пищевым веществом» (стр. 138). В действительности же я, наоборот, предостерегаю от продолжительного употребления простокваши, так как в ней, кроме полезных молочнокислых, встречаются подчас и посторонние нежелательные микробы. Для избежания последних я советую принимать чистые молочнокислые культуры в прокипяченном молоке или в стерилизованном солодовом отваре. Далее, несмотря на то что я подробно объясняю, почему я даю такой совет, мой критик утверждает, что «простоквашу» можно заменить другими такими же веществами, ни в чем ей «не уступающими», например «сырыми фруктами, сидром, квасом, уксусом, даже легким вином» (стр. 138). Но ведь, как я это достаточно развил в своих сочинениях, вопрос не в том, чтобы поглощать кислоты, так как они, в том числе и молочная, всасываются ранее, чем дойти до толстых кишок, где именно они и нужны для противодействия гнилостным бактериям. Поэтому я советую поглощать живыми молочнокислые бактерии, которые проникают в толстые кишки, живут в них и мешают гниению. Правда, что мой критик и тут находит повод к возражениям. Он говорит, что «неизвестно еще, в каком виде доходят молочные бациллы… до кишок». «Не погибают ли в желудке сами?» (стр. 137). Тут опять невнимание и небрежное отношение. Я достаточно привел доказательств того, что молочнокислые бактерии безнаказанно проходят через желудок и встречаются живыми в содержимом толстых кишок. Факт этот был подтвержден с тех пор несколькими исследователями. Сомнений в его действительности быть не должно.
Итак, вся критика моего лечения молочнокислыми бактериями разрушается вполне. Но если г-н Толстой так легко впадает в заблуждение по поводу столь простых и определенных вопросов, то что же должно быть относительно задач более трудных и сложных! И в самом деле, во всем, что касается более гипотетических частей моих сочинений, ошибки моего критика еще многочисленнее. По его мнению, мой «этический очерк представляет собой довольно запутанный сбор недодуманных мыслей, недоказанных утверждений и неудачно выбранных примеров» (стр. 169). Я охотно возвращаю моему критику эту лестную для меня характеристику. Посмотрим, насколько додуманы его собственные мысли и доказаны его утверждения. Г-н Толстой решает, что, по моему мнению, «природа никаких целей и намерений не имеет» (стр. 180). Я нигде, никогда ничего подобного не говорил и не думал. У меня сказано ясно для всякого внимательного читателя: «Не имея понятия ни о целях, ни о „мотивах“ природы, я никогда не становился на метафизическую точку зрения. Я не знаю, имеет ли природа какой бы то ни было идеал и отвечает ли ему появление человека на Земле» (стр. 275 русского издания «Этюдов оптимизма»). И далее: «Я так мало убежден в существовании каких-нибудь предначертаний природы для превращения наших бедствий в блага и дисгармоний в гармонии, что нисколько не удивился бы, если бы идеал этот никогда не был достигнут» (стр. 276). Это значит, что я не считаю возможным проникнуть в область непознаваемого и оставляю ее в стороне, Я не убежден в наличности целей природы и не знаю, существуют ли они или нет, и если существуют, то каковы они. Следовательно, я не утверждаю и не имею никакой возможности утверждать, что природа не имеет целей, равно как и того, что она их имеет. Я не знаю ни того, ни другого.
На этом недоразумении или непонимании моего критика зиждется целый ряд его возражений, которые сами собою падают. Но как же сам он основывает свою точку зрения? Он ссылается на существование у людей особого инстинкта, долженствующего стать руководством нравственного поведения. Вот как он определяет его. «По-моему, – говорит он, – мистические верования основаны на непобедимом инстинкте, на непосредственном ощущении, без всякого опыта и доказательств утверждающих, во-первых, единство вселенной как сознательного, находящегося под контролем высшего разума и высшей воли организма, а во-вторых – неотделимость человека от этой вселенной и вечное участие материальных и психических элементов его натуры во вселенской жизни» (стр. 51). Но где же хоть тень доказательства того, что такой сложный инстинкт действительно заключен в человеческой природе? У моего критика нет даже попытки доказать его существование. Тот факт, что большинство людей верит в божество и в будущую жизнь, основан не на религиозном инстинкте, а объясняется влиянием воспитания и внушения. Чувство страха пред различными явлениями есть очень часто проявление врожденного инстинкта. Так, дитя боится пауков, змей и даже очень безвредных животных независимо от всякого указания извне. Но страх перед бабой-ягой, лешими, домовыми, перед приветствием через порог или перед передаванием соли и пр. развивается вследствие рассказов о причиняемых ими ужасах, помимо всякого инстинкта. Поэтому-то мы видим очень часто, что люди, веровавшие в детстве в то, что им было преподано внушением, теряют с годами и с развитием разумной деятельности всякую веру. Если вообще невозможно признать существование инстинкта веры, то тем более этот вывод применим к вере в «неотделимость человека от вселенной», в участие его «во вселенской жизни», что совершенно бездоказательно принимает мой критик.
В некоторых местах этой книги я еще сделаю некоторые возражения на критику К. К. Толстого, но было бы злоупотреблением внимания читателя, если бы я стал входить в более подробный разбор его претенциозных и неосновательных нападок на мои сочинения.
Те изменения против первого издания этих этюдов, которые мне пришлось сделать, составляют не исправления каких-либо допущенных в нем ошибок, а лишь дополнения к прежде высказанным данным и предположениям, все более и более подтверждающимся новейшими исследованиями.
Илья Мечников
Париж, 13 декабря 1908 г.
| <<< Назад Предисловие к первому русскому изданию |
Вперед >>> Предисловие к третьему изданию |
- Предисловие к первому русскому изданию
- Предисловие ко второму изданию
- Предисловие к третьему изданию
- Предисловие к французскому изданию
- О старости
- Продолжительность жизни животных
- О естественной смерти
- Следует ли пытаться продлить человеческую жизнь
- Психические рудименты у человека
- О некоторых этапах истории развития животных обществ
- Пессимизм и оптимизм
- Гёте и Фауст
- Наука и нравственность
- Очерк воззрений на человеческую природу Из книги «Сорок лет искания рационального мировоззрения»
- Иллюстрации
- Предисловие автора к четвертому изданию
- Предисловие автора к русскому изданию
- Из предисловия автора к первому изданию
- Примечание ко второму изданию
- Предисловие
- Предисловие к русскому изданию
- Предисловие автора к изданию 2006 г.
- ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
- Предисловие к II изданию
- Предисловие к первому изданию
- Предисловие к I изданию
- Предисловие к третьему изданию