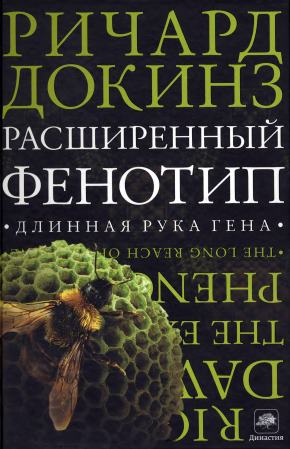Книга: Расширенный Фенотип: длинная рука гена
Глава 11. Генетическая эволюция артефактов животных
| <<< Назад Приступособление пятое |
Вперед >>> Глава 12. Гены паразитов — фенотипы хозяев |
Глава 11. Генетическая эволюция артефактов животных
Что мы в действительности подразумеваем под фенотипическим действием гена? Самого беглого знакомства с молекулярной биологией хватит, чтобы дать один из возможных ответов: каждый ген отвечает за синтез какой-то одной белковой цепи. В самом первом приближении этот белок и есть его фенотипический эффект. Более отдаленные эффекты, такие как цвет глаз или поведение, являются, в свою очередь, последствиями ферментативной деятельности этого белка. Однако такое простое объяснение имеет мало отношения к исследовательскому анализу. «Действие» какой угодно предполагаемой причины становится осмысленным понятием, только будучи выраженным через сравнение, пусть и не всегда явное, хотя бы еще с одной альтернативной причиной. Высказывание «голубые глаза — результат действия такого-то гена G1» является, строго говоря, незаконченным. Произнося нечто подобное, мы на самом деле подразумеваем возможность существования как минимум одного альтернативного аллеля, назовем его G2, и как минимум одного альтернативного фенотипа F2 — в данном случае, скажем, карих глаз. Мы неявным образом утверждаем наличие взаимосвязи между парой генов {G1, G2} и парой различимых фенотипов {F1, F2} в окружении, которое либо является неизменным, либо подвержено несистематическим колебаниям, так что его вклад в среднем равен нулю. Упомянутое в последнем уточнении «окружение» включает в себя и все гены остальных локусов, необходимые, чтобы F1 или F2 мог проявиться. Наше утверждение состоит в том, что особи с G1 будут достоверно чаще проявлять F1 (а не F2), чем особи с G2. Разумеется, нам нет надобности требовать того, чтобы F1 всегда был связан с G1, так же как и того, чтобы G1 всегда приводил к F1. во всем реальном мире, за исключением учебников по логике, такие простые понятия, как «необходимый» и «достаточный», как правило, приходится заменять на их статистические эквиваленты.
Может показаться, будто такая необходимость считать, что не фенотипы определяются генами, а различия между фенотипами определяются различиями между генами (Jensen, 1961; Hinde, 1975), размывает понятие генетической обусловленности до такой степени, что оно перестает представлять какой-либо интерес. Это далеко не так, по крайней мере, в том, что касается нашего изучения естественного отбора, поскольку естественный отбор тоже имеет дело с различиями (глава 2). Естественный отбор — это процесс, в ходе которого одни аллели вытесняют другие, а орудием, при помощи которого они это делают, служат их фенотипические эффекты. Отсюда следует, что фенотипические эффекты всегда можно рассматривать относительно альтернативных фенотипических эффектов.
Вошло в привычку рассуждать так, будто «различия» — это всегда различия между индивидуальными организмами или иными обособленными «транспортными средствами». Задача этой главы и двух следующих — показать, что мы можем не ограничивать понятие фенотипических различий рамками каких бы то ни было транспортных средств. В этом и состоит смысл заголовка «Расширенный фенотип». Я продемонстрирую, что самые банальные логические умозаключения, вытекающие из генетической терминологии, неизбежно приводят к выводу, что мы можем говорить о генах, оказывающих расширенные фенотипические эффекты — эффекты, которым не обязательно проявляться на уровне какого-то определенного транспортного средства. Развивая идеи своей более ранней статьи (Dawkins, 1978а), я буду приближаться к расширенному фенотипу постепенно: начну с традиционных примеров «обычного» фенотипического действия, а затем мало-помалу стану расширять понятие фенотипа, так чтобы плавность аргументации способствовала легкости ее восприятия. Дидактически полезным переходным примером является генетическая обусловленность артефактов животных, и именно она будет основной темой настоящей главы.
Но прежде давайте представим себе ген А, непосредственное молекулярное действие которого — синтез черного белка, окрашивающего кожу животного в черный цвет. Итак, проксимальный эффект данного гена — в самом простом молекулярно-биологическом смысле — синтез этого самого черного белка. Но является ли А «геном черной окраски»? Мысль, которую я хочу до вас донести, состоит в том, что ответ на этот вопрос будет просто в силу существующих определений зависеть от имеющейся в популяции изменчивости. Предположим, у гена А есть аллель А неспособный синтезировать черный пигмент, так что особи, гомозиготные по А как правило, белые. Тогда А — это действительно «ген черной окраски» в том смысле, какой я вкладываю в это выражение. Но ведь может быть и так, что вся имеющаяся в популяции изменчивость по цвету кожи на самом деле возникает благодаря генетической изменчивости в совершенно другом локусе В. Непосредственный биохимический эффект В — синтез белка, который не является черным пигментом, но работает как фермент, одно из побочных действий которого (если сравнивать с аллелем В’) — какими-то окольными путями способствовать синтезу геном А черного пигмента в клетках кожи.
Конечно же, ген А, белковый продукт которого — черный пигмент, необходим для того, чтобы особь была черной. Так же как для этого необходимы и тысячи других генов — хотя бы только потому, что особь без них вообще не существовала бы. Но я не буду называть А геном черной окраски, если в популяции отсутствует какая-либо изменчивость, вызванная отсутствием А, Если у всех особей без исключения есть А и единственная причина, по которой некоторые из них не являются черными, это наличие В’ вместо В, то мы скажем, что #, а не А — ген черной окраски.
Если изменчивость, влияющая на цвет кожи, наблюдается в обоих локусах, то генами черной окраски мы будем называть и А, и В. Суть здесь в том, что потенциально как А, так и В имеет право называться геном черной окраски — все зависит от того, какие альтернативные аллели имеются в популяции. Тот факт, что цепочка причин, ведущая от А к молекуле черного пигмента, короткая, а в случае с В она длинная и извилистая, к делу отношения не имеет. Большинство производимых генами действий из тех, что наблюдаются биологами, занятыми изучением целостных организмов, и все, наблюдаемые этологами, осуществляются длинными и извилистыми путями.
Один наш коллега-генетик утверждал, что наследственных черт поведения на самом деле не существует, потому что все такие черты, открытые на сегодняшний день, оказались «побочными продуктами» каких-то более основополагающих явлений морфологии и физиологии. Но скажите на милость, чем же по его мнению является любой наследственный признак — морфологический, физиологический или поведенческий, — если не «побочным продуктом» чего-то более основополагающего? Подумав как следует, мы обнаружим, что за исключением белковых молекул все результаты деятельности генов — «побочные продукты».
И если вернуться к примеру с черным цветом кожи, то в цепи причин, связывающей такой ген, как В, с его чернокожим фенотипом, вполне может содержаться даже поведенческое звено. Предположим, что А способен синтезировать черный пигмент только на свету, и предположим также, что В оказывает свое действие, заставляя особей стремиться под открытые солнечные лучи, в то время как В' заставляет их искать тень. Особи, несущие В, больше времени проводят на солнце и, следовательно, будут чернее, нежели особи, несущие В'. И все равно, согласно общепринятой терминологии, В будет «геном черной окраски» ничуть не в меньшей степени, чем если бы эта цепочка причин была исключительно биохимической, а не включала в себя «внешнюю» поведенческую петлю. Ведь стопроцентного генетика не должны заботить детали того пути, который ведет от гена к фенотипическому эффекту Строго говоря, генетик, увлекающийся интересными вопросами такого рода, временно надевает на себя личину эмбриолога. Генетик в чистом виде — это тот, кто занимается конечными продуктами, а в особенности различиями во влиянии, производимом на эти конечные продукты разными аллелями. Естественный отбор занимается в точности тем же самым, поскольку он «воздействует на результат» (Lehrman, 1970). Промежуточный вывод таков: нас не удивить фенотипическими эффектами, которые соединены с обусловливающими их генами длинными и петляющими причинно-следственными тропинками, а значит, и дальнейшее расширение понятия «фенотип» вряд ли поразит наше воображение. В данной главе мы предпримем первый шаг в сторону такого расширения, взглянув на артефакты животных как на примеры фенотипической экспрессии генов.
Обзор увлекательнейшей темы артефактов животных был сделан Хэнселом (Hansell, 1984), показавшим, что артефакты могут быть полезной иллюстрацией некоторых общих отологических закономерностей. Здесь же они послужат для пояснения другого принципа, а именно, принципа расширенного фенотипа. Представим себе некий гипотетический вид ручейника, личинки которого строят свой домик, подбирая для этой цели камешки с речного дна. Представим также, что в популяции встречается два четко различимых типа домиков — темные и светлые. Проведя скрещивания, выясняем, что такие признаки, как «темный домик» и «светлый домик», не имеют переходных форм и наследуются в соответствии с элементарными законами Менделя — скажем, темная окраска домика доминирует над светлой. В принципе нет ничего невозможного в том, чтобы с помощью рекомбинационного анализа выяснить, где именно гены окраски домика располагаются на хромосоме. Все это, разумеется, умозрительно. Я не слышал ни о каких генетических исследованиях домиков ручейников и вряд ли когда-нибудь услышу, потому что взрослые особи плохо размножаются в неволе (М. H. Hansell, личное сообщение). Но я хочу сказать только то, что будь технические трудности преодолимы, никто особенно не удивился бы, окажись цвет домика обычным наследуемым по Менделю признаком, как это было в моем мысленном эксперименте. (На самом деле пример с цветом был выбран несколько неудачно, так как зрение у ручейников слабое, и при выборе камешков они почти наверняка не руководствуются их внешним видом. Но вместо того, чтобы воспользоваться более реалистичным примером с формой камешков, который предложил мне Хэнсел, я продолжу оперировать их цветом ради проведения аналогии с обсуждавшимся выше черным пигментом.)
Из сказанного вытекает интересное следствие. Цвет домика определяется не черным пигментом, синтезированным биохимически, а цветом камешков, собранных личинкой с речного дна. Гены, обусловливающие цвет домика, должны действовать посредством поведенческих механизмов — возможно, с использованием зрения. С этим согласится любой этолог. Эта глава добавляет к рассуждению следующее логическое звено: раз мы признали существование генов строительного поведения, то это значит, что в соответствии с принятыми правилами терминологии мы должны и сам артефакт считать частью фенотипической экспрессии генов животного. Камешки находятся за пределами организма, однако если рассуждать логически, то ген будет «геном цвета домика» в силу оснований столь же веских, как и те, по которым гипотетический ген В был геном цвета кожи. А ген В действительно был геном цвета кожи, пусть даже он действовал посредством поведенческой склонности находиться на свету, — был им в силу оснований столь же веских, как и те, по которым «геном цвета кожи» мы называем ген альбинизма. Во всех трех случаях логика идентична. И вот мы сделали первый шаг по вынесению границ понятия «фенотипический эффект гена» за пределы индивидуального организма. Этот шаг был нетрудным, поскольку мы уже подготовили себя к нему, осознав тот факт, что даже нормальные «внутренние» фенотипические эффекты могут быть завершением длинных, разветвленных и петляющих причинно-следственных цепочек. Теперь давайте продвинемся еще чуть-чуть дальше.
Домик личинки ручейника не является, строго говоря, частью ее состоящего из клеток тела, однако он это тело аккуратно облегает. Если рассматривать организм как транспортное средство для генов, машину выживания, то легко увидеть, что каменный домик является своего рода дополнительной защитной стенкой — функционально это наружная часть транспортного средства. Просто состоит она из камня, а не из хитина. Теперь давайте представим себе паука, сидящего в центре сплетенной им ловчей сети. Если рассматривать его как транспортное средство для генов, то паутина не будет частью этого транспортного средства в том же самом явном смысле, как это было с домиком ручейника, поскольку когда паук поворачивается, паутина не поворачивается вместе с ним. Но эта разница несущественна. Паутина поистине является временным функциональным продолжением организма, гигантским увеличением зоны действия органов для захвата добычи.
Я опять-таки никогда не слышал про генетический анализ строения паутины, но в подобном анализе нет ничего принципиально невозможного. Известно, что у пауков существует индивидуальный «почерк», повторяющийся от паутины к паутине. Например, было замечено, как одна самка Zygiella x-notata сплела более 100 ловчих сетей, и во всех отсутствовало одно и то же кольцо (Witt, Read & Peakall, 1968). Никто из тех, кто знаком с литературой по генетике поведения (например, с работой Manning, 1971), не будет удивлен, если окажется, что у такого индивидуального «почерка» пауков имеется генетическая подоплека. Да само наше убеждение, что паутина приобрела свою высокоэффективную форму в результате естественного отбора, неизбежно приводит нас к мысли, что хотя бы в прошлом разнообразие паутин должно было находиться под влиянием генов (глава 2). Как и в случае с домиком личинки ручейника, гены должны были оказывать свое действие через поведение, а прежде того, в эмбриональном развитии, вероятно, через строение нервной системы, а еще прежде, вероятно, через биохимию клеточных мембран. Какими бы конкретными путями ни действовали гены в онтогенезе, маленький добавочный шажок от поведения к паутине не является хоть сколько-нибудь более невообразимым, чем множество тех предшествовавших ему причинно-следственных шагов, которые остались скрыты в лабиринтах развития нервной системы.
Ни для кого не составит трудности воспринять идею о генетической регуляции различий в морфологии. В наши дни мало у кого возникнут проблемы и с пониманием того, что генетический контроль строения и генетический контроль поведения принципиально ничем друг от друга не отличаются, и вряд ли нас собьют с толку неудачные высказывания вроде этого: «Строго говоря, наследуется только мозг (а не поведение)» (Pugh, 1980). Конечно же, нам понятно, что если можно в каком бы то ни было смысле говорить, что мозг наследуется, то и поведение может быть унаследовано ровно в том же самом смысле. И если мы возражаем против того, чтобы говорить о наследовании поведения, как это делают некоторые, исходя из логических умозаключений, тогда, чтобы быть последовательными, нельзя позволять себе говорить и о наследовании мозгов. Но уж коли мы решили придерживаться позиции, что и морфология, и поведение могут быть наследуемыми, то никаких разумных возражений против того, чтобы считать наследуемыми цвет домика ручейника и форму паутины, у нас быть не может. Дополнительный шаг от поведения к расширенному фенотипу, в данном случае к каменному домику или к паутине, принципиально не отличим от того шага, который разделяет морфологию и поведение.
С точки зрения этой книги артефакт животного, как и любое другое фенотипическое проявление, на изменчивость которого влияет некий ген, можно считать потенциальным рычагом для перебрасывания этого гена в следующее поколение. Ген может способствовать своему дальнейшему продвижению, украсив хвост самца райской птицы сексуальным синим перышком или же заставив самца шалашника покрасить свой шалаш синим соком, выдавленным из ягод. Эти два примера различаются кое-какими деталями, но для генов результат один и тот же. Тем генам, у которых лучше, чем у соперничающих с ними аллелей, получается наделить особь сексуальной привлекательностью, благоприятствует отбор, и неважно, являются их фенотипические эффекты «обычными» или «расширенными». В пользу этого говорит и интересное наблюдение: виды шалашников, строящие особенно роскошные шалаши, отличаются относительно невзрачным оперением, в то время как у более нарядно окрашенных видов шалаши, как правило, менее искусные и пышные (Gilliard, 1963). Как будто некоторые виды частично переложили ответственность за адаптацию с фенотипа организма на расширенный фенотип.
Фенотипические эффекты, о которых мы говорили до сих пор, не уходили от породивших их генов дальше, чем на несколько ярдов, но в принципе нет никаких причин, по которым длина фенотипических рычагов гена не могла бы исчисляться милями. Бобр строит плотину неподалеку от своей хатки, но в результате может быть затоплена площадь в тысячи квадратных метров. Что касается того, какие преимущества запруда дает бобру, то наиболее правдоподобным является предположение, что таким образом увеличивается расстояние, которое он может преодолевать по во&, а это и безопаснее, и проще для транспортировки древесины. Бобр, живущий у ручья, быстро израсходовал бы запас пригодных в пищу деревьев, расположенных на берегу этого ручья на приемлемом расстоянии. Перегородив ручей плотиной, бобр создает протяженную береговую линию, служащую для безопасного и удобного запасания корма и избавляющую от необходимости долгих и тяжелых сухопутных экспедиций. Если такая догадка верна, тогда пруд можно рассматривать в качестве огромного расширенного фенотипа, увеличивающего площадь добывания пищи аналогично паучьей сети. Как и в случае с паутиной, никто никогда не проводил генетического анализа бобровых плотин, но на самом деле нам это и не нужно для того, чтобы убедиться в том, что мы вправе называть плотину и пруд частью фенотипической экспрессии генов бобра. Достаточно лишь признать, что плотины бобров возникли в результате дарвиновского естественного отбора, а это могло произойти только в том случае, если среди плотин существовала изменчивость, находившаяся под контролем генов (глава 2).
Обсудив всего несколько примеров объектов, созданных животными, мы уже раздвинули границы понятия «фенотип гена» на много миль. И тут мы сталкиваемся с трудностью. Бобровую плотину строит обычно не одна особь. Как правило, моногамные пары трудятся совместно, а последующие поколения семьи отвечают за поддержание в рабочем состоянии и расширение «наследия», которое может включать в себя каскад из полудюжины плотин, а иногда еще и несколько «искусственных каналов». Про домик личинки ручейника и про паутину было легко говорить, что они являются расширенным фенотипом генов создавшего их индивидуума. Но как прикажете трактовать артефакт, произведенный совместными усилиями пары животных или целой семьи? Дальше больше — вообразите-ка термитник, построенный колонией компасных термитов, эту плиту, по форме напоминающую надгробие, одну из вереницы однотипных глыб, ориентированных строго с севера на юг, рядом с которыми их строители выглядят такими же крошечными, каким выглядел бы человек на фоне километрового небоскреба (von Frisch, 1975). Она была сооружена миллионами термитов, коллективы которых разделяло время, подобно тому как средневековые каменщики всю жизнь трудились над одним собором и не могли увидеть своих коллег, которым предстояло завершить работу. Тот, кто считает единицей отбора организм, вправе задаться вопросом: а чьим именно расширенным фенотипом предполагается считать термитник?
Если вам кажется, что, несмотря на все доводы, это соображение делает концепцию расширенного фенотипа затруднительной, я только попрошу вас обратить внимание на то обстоятельство, что с «обычными» фенотипами всегда возникала ровно та же самая проблема. Мы уже полностью свыклись с мыслью, что какой-то конкретный фенотипический признак, будь то орган или поведенческая схема, подвержен влиянию большого числа генов, эффекты которых суммируются или же взаимодействуют более сложным образом. Рост человека в определенном возрасте — это признак, зависящий от генов из многих локусов, которые взаимодействуют друг с другом, а также с рационом и с другими факторами среды. Высота термитника, находящегося в определенном «возрасте», тоже, несомненно, регулируется множеством факторов среды и многими генами, объединяющими или модифицирующими влияния друг друга. И не принципиально, что в случае с термитником арена непосредственного действия генов внутри организма оказалась распределенной между клетками большого числа рабочих особей.
Если нас так беспокоит непосредственное действие генов, то гены, от которых зависит мой рост, осуществляют это свое влияние, тоже распределяя эффекты между множеством отдельных клеток. В моем теле полно генов — все соматические клетки получили по идентичной порции. Каждый ген оказывает свое действие на клеточном уровне, причем только меньшинство генов экспрессируется в каждой клетке. Суммарный эффект всех этих воздействий на клетки и аналогичных влияний окружающей среды может быть измерен как единый параметр — рост моего тела. В термитнике точно так же полным-полно генов. Эти гены тоже распределены между ядрами большого числа клеток. Так вышло, что эти клетки, в отличие от клеток моего организма, не содержатся внутри одной компактной единицы, но даже тут разница не очень велика. Термиты двигаются друг относительно друга свободнее, чем это могут делать человеческие органы, но разве нам не известны случаи, когда клетки человека быстро перемещаются по организму для выполнения каких-то своих задач? Взять хотя бы фагоциты, преследующие микроскопических паразитов и заглатывающие их. Более важное отличие (в случае термитника, но не в случае кораллового рифа, построенного генетически идентичными особями) состоит в том, что упаковки, по которым расфасованы клетки термитника, генетически разнородны: каждый отдельный термит представляет собой клон клеток, но клон иной, нежели все остальные особи из того же гнезда. Однако это лишь относительное затруднение. Существенно то, что и здесь гены производят свои эффекты, которые можно сравнить с действием аллелей-соперников, — эффекты количественные, взаимодействующие друг с другом, видоизменяющие друг друга и влияющие на общий фенотип, а именно, на термитник. Как бы клетки ни объединялись — в один крупный однородный клон, как в случае с организмом человека, или в разнородный набор клонов, как это происходит в термитнике, — принцип один и тот же. Я временно отложу обсуждение того затруднительного момента, что организм термита сам по себе является «колонией» — значительная доля его генетических репликаторов содержится в симбиотических простейших и бактериях.
Что же тогда может представлять собой генетика термитников? Предположим, нам надо изучить популяцию термитников, построенных компасными термитами в австралийских степях, оценивая какой-нибудь признак вроде цвета, отношения длины к ширине у основания или некой черты внутреннего строения — термитники, как и организмы, имеют сложное устройство со своими «органами». Как бы мы могли провести генетический анализ такого созданного коллективным трудом фенотипа? Не стоит надеяться обнаружить обычное менделевское наследование с простым доминированием. Очевидная сложность, о которой уже упоминалось, состоит в том, что генотипы строителей любого термитника друг другу не идентичны. Однако на протяжении большей части жизни среднестатистической колонии все ее рабочие приходятся друг другу родными братьями и сестрами, детьми исходной царской пары основавших колонию крылатых особей. Рабочие, как и их родители, диплоидны. Мы можем исходить из того, что два набора генов царя и два набора генов царицы, многократно перетасованные, разошлись между несколькими миллионами организмов рабочих. Следовательно, «генотип» всей совокупности рабочих особей можно в некотором смысле рассматривать как один тетраплоидный генотип, образованный всеми генами пары основателей. На самом деле по ряду причин ситуация не столь проста — например, в старых колониях могут возникать дополнительные репродуктивные особи, которым полностью передается функция размножения в том случае, если кто-то из исходной царской пары умирает. Это означает, что те рабочие, которые будут достраивать термитник, могут приходиться первым строителям не полными сибсами, а племянниками и племянницами (вероятно, инбредными и, кстати говоря, генетически весьма однородными — Hamilton, 1972; Bartz, 1979). Эти новые репродуктивные особи тоже получили свои гены из «тетраплоидного» набора, предоставленного первоначальной царской парой, однако в их потомстве будет перетасовано уже некое подмножество исходного множества генов. Таким образом, «генетик термитников» мог бы, в числе прочего, попытаться обнаружить внезапные перемены в деталях строительства после того, как одну из первичных репродуктивных особей сменит вторичная.
Давайте пренебрежем проблемой, создаваемой дополнительными репродуктивными особями, и ограничим наше воображаемое генетическое исследование изучением молодых колоний, где все рабочие особи — родные братья и сестры. Может оказаться так, что некоторые признаки, по которым термитники отличаются друг от друга, в значительной степени контролируются одним локусом, в то время как другие регулируются многими генами из разных локусов. Это не отличается от обыкновенной генетики диплоидных организмов, но теперь у нашей квазитетраплоидной генетики возникают кое-какие сложности. Предположим, что существует генетическая изменчивость поведенческого механизма, определяющего выбор цвета глины, применяемой при строительстве. (Цвет снова взят для единообразия с предыдущими мысленными экспериментами, хотя опять-таки реалистичнее было бы не касаться визуальных признаков — термиты мало пользуются зрением. Если нужно, мы можем считать, что выбор делается с помощью химического чувства — цвет глины случайно коррелирует с какими-то ее химическими свойствами. Это будет даже поучительно, ибо в очередной раз напомнит нам, что названия, которые мы даем фенотипическим признакам, произвольны и условны.) Для простоты давайте считать, что выбор глины зависит от диплоидного генотипа отдельных рабочих, регулируется одним локусом и наследуется по Менделю — допустим, выбор темной глины доминирует над выбором светлой глины. Следовательно, термитник, построенный колонией, в которой некоторые рабочие предпочитают темный цвет, а некоторые светлый, будет состоять из смеси темной и светлой глины и предположительно иметь промежуточную окраску. Разумеется, такие простые генетические допущения чрезвычайно неправдоподобны. Они аналогичны тем упрощениям, которые мы обычно делаем, когда объясняем элементарные закономерности обыкновенной генетики, и я использую их здесь, чтобы точно так же разъяснить, как могли бы проводиться исследования в «расширенной генетике».
Итак, если принять эти допущения, то мы могли бы выписать все ожидаемые расширенные фенотипы (касающиеся только цвета глины, разумеется), получающиеся в результате скрещивания пары основателей, обладающих любыми возможными генотипами. Например, во всех колониях, основанных гетерозиготными царем и царицей, рабочие, строящие из темной глины, и рабочие, строящие из светлой глины, будут содержаться в соотношении 3:1. Расширенный фенотип, который возникнет в результате, будет представлять собой термитник, на три четверти состоящий из темной глины и на четверть — из светлой, то есть почти, но не абсолютно, темный. Если же на выбор цвета глины влияют полигены из различных локусов, то можно предположить, что «тетраплоидный генотип» колонии будет влиять на расширенный фенотип по принципу кумулятивной полимерии. Колония, благодаря своему гигантскому размеру, будет действовать как некий статистический усреднитель, с помощью которого весь термитник станет расширенным фенотипическим выражением генов царской пары, проявляющимся через поведение нескольких миллионов рабочих особей, каждая из которых содержит свою диплоидную выборку из этих генов.
Цвет глины — пример для нас незатруднительный, поскольку глина сама смешивается простым кумулятивным образом: добавьте темную глину к светлой — получите глину цвета хаки. Следовательно, мы могли легко предсказать результат, исходя из предположения, что каждый рабочий действует сам по себе, выбирая глину своего любимого цвета (или связанное с этим цветом химическое вещество) в соответствии со своим собственным диплоидным генотипом. Но что мы можем сказать про какую-нибудь черту общего строения термитника — скажем, про отношение длины к ширине? Такой признак по сути своей не может определяться выбором, делаемым каждой отдельно взятой рабочей особью. Каждый отдельно взятый рабочий подчиняется каким-то поведенческим установкам, и как суммарный итог деятельности тысяч особей возникает термитник, имеющий правильную форму и строго определенные размеры. Но и с этой сложностью мы с вами уже сталкивались, когда речь шла об эмбриональном развитии обычного диплоидного многоклеточного организма. Эмбриологи все еще бьются над проблемами такого рода, и проблемы эти труднопреодолимы. Тут определенно можно провести близкую аналогию с развитием термитника. Например, обычные эмбриологи часто апеллируют к такому понятию, как химический градиент, и в то же время известно, что форма и размер царской ячейки у Macrotermes определяются градиентом феромонов, исходящих от царицы (Bruinsma & Leuthold, 1977). Каждая клетка развивающегося зародыша ведет себя так, как будто она «знает», в какой именно части тела находится, и когда она вырастает, ее форма и физиология соответствуют этой части тела (Wolpert, 1970).
Иногда последствия мутации легко поддаются объяснению на клеточном уровне. Например, мутация, влияющая на кожную пигментацию, оказывает достаточно очевидное «местное воздействие» на каждую клетку кожи. Но есть мутации, которые изменяют сложные признаки самым решительным образом. Так, хорошо известны «гомеозисные» мутации[85] у Drosophila — например, когда из антеннальной ямки вместо антенны вырастает целая и во всех отношениях развитая нога. Чтобы изменение в одном-единственном гене приводило к столь значительному и при этом упорядоченному изменению фенотипа, оно должно наносить повреждение на достаточно высоком уровне в иерархической «цепи инстанций». Можно провести такую аналогию: если один пехотинец вдруг спятит, то только он один и выйдет из-под контроля, но если вдруг генерал потеряет рассудок, то вся армия начнет вести себя по большому счету как безумная — скажем, вместо противника нападет на союзника, хотя каждый отдельный солдат этой армии будет, как обычно, осознанно выполнять приказы, и его поведение внешне будет неотличимо от поведения солдата армии, возглавляемой психически здоровым генералом.
Возможно, отдельный термит, трудящийся над крохотным закуточком своего термитника, в чем-то похож на клетку в развивающемся зародыше или на отдельного солдата, прилежно выполняющего приказы, глобальное значение которых ему непонятно. Нигде в нервной системе насекомого нет ничего хотя бы отдаленно напоминающего план всего термитника (Wilson, 1971, р.228). Каждая рабочая особь оснащена простым набором поведенческих правил и, вероятно, выбирает то или иное поведение из своего «инструментария», руководствуясь локальными стимулами, порождаемыми уже сделанной работой, вне зависимости от того, сама она сделала ее или другие рабочие. Эти стимулы являются частью текущего состояния строящегося гнезда в непосредственной близости от рабочей особи («stigmergie» — Grasse, 1959). Для моих целей не имеет значения, что именно представляют собой такие поведенческие правила, но они могли бы выглядеть наподобие следующего: «Если наткнешься на кучку глины, ароматизированную таким-то феромоном, положи еще кусочек сверху». Важная особенность таких правил — их исключительно местное значение. Грандиозная конструкция всего термитника возникает только как суммарный результат микроинструкции, выполнявшихся тысячи раз (Hansell, 1984). Особенный интерес вызывают те правила местного значения, которыми определяются общие свойства термитника-компаса, например его длина у основания. Откуда начинающие строительство рабочие особи «знают», что подошли к границе будущего здания? Возможно, примерно оттуда же, откуда клетки, расположенные на границе печени, «знают», что они находятся не в центре органа. В любом случае, какими бы ни были эти локальные поведенческие правила, детерминирующие форму и размер всего термитника, можно предположить, что в популяции они подвержены генетической изменчивости. Вполне правдоподобно, а на самом деле практически неизбежно, что и форма, и размер термитника точно так же, как и любая особенность морфологии организма, стали такими, какие они есть, в результате естественного отбора. А это могло произойти только через отбор мутаций, затрагивающих строительное поведение рабочих термитов «на местах».
Вот тут-то и встает та особая проблема, которой не возникало ни при обычном эмбриогенезе многоклеточного организма, ни в нашем примере со смешиванием темной и светлой глины. В отличие от клеток многоклеточного организма, рабочие особи генетически не идентичны. В случае с разноцветной глиной было легко предположить, что генетически неоднородная рабочая сила просто-напросто построит термитник из смешанного материала. Но деятельность рабочей силы, гетерогенной по одному из поведенческих правил, влияющих на форму всего термитника, может привести к любопытным результатам. По аналогии с нашей простой моделью выбора глины «по Менделю», колония может состоять из рабочих, придерживающихся двух различных инструкций касательно границы термитника, скажем, в соотношении три к одному. Мне доставляет удовольствие воображать, как такая бимодальная колония обнесет термитник двойными стенами, разделенными рвом. Но более вероятно, что среди правил, которым подчиняются особи, содержится и предписание меньшинству повиноваться решению большинства, так что возведена будет только одна стена, имеющая четкую форму Это может осуществляться сходным образом с тем «демократическим» выбором места для нового гнезда у роящихся медоносных пчел, который наблюдал Линдауэр (Lindauer, 1961).
Пчелы-разведчицы оставляют рой висеть на ветвях, а сами отправляются на поиск мест, пригодных для жилища, например дуплистых деревьев. Каждая разведчица возвращается и танцует на поверхности роя, используя знаменитый «код фон Фриша», чтобы указать направление и расстояние до только что исследованного ею предполагаемого места для поселения. «Энергичность» танца говорит о том, как сама разведчица оценивает достоинства этого места. На его изучение отряжаются новые пчелы, и если они «одобряют», то, вернувшись, исполняют танец «в его поддержку». По прошествии нескольких часов все разведчицы разбиваются на «партии», каждая из которых «агитирует» за свое место для гнездования. Постепенно миноритарные «точки зрения» становятся еще более миноритарными, поскольку все большее количество пчел переходит на сторону большинства. Когда большинство в поддержку какого-то одного места становится подавляющим, весь рой поднимается и летит туда обустраиваться.
Линдауэр наблюдал, как происходил этот процесс в девятнадцати различных случаях роения, и только дважды пчелы долго не могли прийти к консенсусу. Процитирую его описание одного из этих инцидентов:
В первом случае две группы вестниц стали спорить: одна группа сообщала о месте для гнездования на северо-западе, а другая — на северо-востоке. Ни те, ни другие не желали уступать. Наконец рой взлетел и — я едва верил своим глазам! — стал пытаться разделиться. Одна половина хотела лететь на северо-запад, другая — на северо-восток. Каждая группа пчел-разведчиц явно намеревалась вынудить рой лететь за собой. Но это было, естественно, невозможно, так как тогда половине роя пришлось бы остаться без матки, и в итоге все вылилось в удивительное перетягивание каната в воздухе: 100 метров к северо-западу, потом еще 150 метров на северо-восток. Наконец, спустя полчаса, рой снова собрался на прежнем месте. Обе группы незамедлительно возобновили свои назойливые танцы, и только на следующий день «северо-восточная группировка» в конце концов сдалась. Она прекратила танцевать, и таким образом было принято общее решение гнездиться на северо-западе (Lindauer, 1961, р. 43).
Здесь не делается предположения, что эти две подгруппы пчел различались генетически, хотя это и возможно. Для идеи, которую я тут излагаю, важно то, что каждая особь следует своим имеющим частный характер поведенческим инструкциям, а в совокупности это обычно приводит к скоординированному поведению роя в целом. Такие инструкции, несомненно, включают в себя и правило разрешения споров в пользу большинства. Разногласия по поводу местоположения внешней стены термитника могут быть так же существенны для выживания колонии, как и разногласия по поводу места для гнездования у линдауэровских пчел (выживание колонии имеет значение, поскольку от него зависит выживание генов, помогающих индивидуумам разрешать споры). В качестве рабочей гипотезы мы могли бы предположить, что урегулирование конфликтов, связанных с генетической неоднородностью у термитов, происходит аналогичным способом. Так расширенный фенотип мог бы принимать определенную и правильную форму, несмотря на то что возводящие его строители генетически различны.
Проделанный в этой главе анализ артефактов рискует, на первый взгляд, быть доведенным до абсурда. Могут спросить: нельзя ли любое воздействие, оказываемое животным на мир, в каком-то смысле считать расширенным фенотипом? А как насчет следов на песке, которые оставляет кулик-сорока, тропинок, протоптанных в траве овцами, пышной растительности на месте прошлогодней коровьей лепешки? Голубиное гнездо — это, вне всякого сомнения, артефакт, но ведь, собирая веточки, птица изменяет и внешний вид земли, на которой они лежали. Если мы называем гнездо расширенным фенотипом, то не должны ли мы применить это понятие и к голому участку земли, где до этого валялись прутики?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны вспомнить, по какой фундаментальной причине нас вообще интересует фенотипическая экспрессия генов. Причин может быть много, но та, которой мы занимаемся в этой книге, вот какая. Нас интересует сущность естественного отбора, то есть дифференциального выживания таких реплицирующихся объектов, какими являются гены. Отбор благоприятствует или не благоприятствует генам по сравнению с их аллелями-конкурентами в зависимости от фенотипического воздействия, которое эти гены оказывают на мир. Некоторые фенотипические эффекты могут быть случайными последствиями других фенотипических эффектов и никоим образом не влиять на шансы выживания тех генов, что произвели их. Генетическая мутация, изменяющая форму лапки кулика-сороки, несомненно, будет оказывать влияние на успехи кулика в распространении этой мутации. Например, она может слегка уменьшать риск увязания птицы в грязи, но зато слегка замедлять перемещение по твердой поверхности. Такие эффекты, по всей вероятности, имеют к естественному отбору самое прямое отношение. Но эта мутация будет также производить и предполагаемый расширенный фенотипический эффект: воздействовать на форму отпечатков, оставляемых птицей на грунте. Если (что почти наверняка) это никак не сказывается на успехе затронутого мутацией гена (Williams, 1966, р.12–13), то, значит, тут нет ничего интересного для того, кто изучает естественный отбор, и нет смысла говорить об этом как о расширенном фенотипе, хотя формально, возможно, это и не было бы ошибкой. С другой стороны, если бы измененный отпечаток лапки кулика-сороки действительно как-нибудь влиял на выживаемость птицы, — скажем, хищникам было бы труднее ее выследить, — тогда я бы предпочел рассматривать это как часть расширенного фенотипа данного гена. Фенотипические эффекты генов — будь то на уровне биохимии клетки, макроскопической морфологии организма или расширенного фенотипа — потенциально могут быть как рычагами, способствующими попаданию генов в следующее поколение, так и барьерами, затрудняющими его. Случайные побочные эффекты порой не являются ни приспособлениями, ни помехами, и тогда мы не утруждаем себя тем, чтобы считать их проявлениями фенотипической экспрессии генов — ни обычными, ни расширенными.
Досадно, что этой главе пришлось быть в большой степени гипотетической. Генетика строительного поведения, какой вид животных ни возьми, исследовалась крайне мало (например, Dilger, 1962), но нет причин считать, что «генетика артефактов» будет чем-то принципиально отличаться от генетики поведения вообще (Hansell, 1984). Идея расширенного фенотипа пока еще слишком непривычна для генетиков, чтобы им могло ни с того ни с сего прийти в голову изучать фенотип термитников, даже если бы это было легко — а это трудно. Однако следует признать хотя бы теоретическую ценность такого раздела генетической науки, если только мы признаем дарвиновскую эволюцию термитников и бобровых плотин. Кто усомнится в том, что если бы термитники хорошо сохранялись в геологической летописи, то мы могли бы наблюдать постепенные эволюционные ряды с изменениями столь же плавными (или столь же прерывистыми!), как и те, что мы видим в палеонтологии позвоночных (Schmidt, 1955; Hansell, 1984)?
Позвольте мне добавить еще одно предположение, которое подведет нас к следующей главе. До сих пор я рассуждал так, будто все находящиеся в термитнике гены заключены в ядра клеток, образующих организмы термитов. Предполагалось, что гены отдельных термитов — вот источник «эмбриологических» сил, влияющих на расширенный фенотип. Однако глава о манипуляциях и гонке вооружений, надеюсь, научила нас быть настороже и смотреть на вещи иначе. Если бы можно было выделить всю ДНК из термитника, то, пожалуй, четверть от ее общего количества была бы получена вовсе не из клеточных ядер термитов. Примерно такая доля массы тела каждого отдельно взятого термита обычно приходится на расщепляющие целлюлозу симбиотические микроорганизмы — жгутиконосцев и бактерии, — живущие в его кишечнике. Эти симбионты всецело зависят от термитов, а термиты от них. Свое непосредственное влияние гены симбионтов оказывают через синтез белков в цитоплазме симбионтов. Но подобно тому как у термитов гены дотягиваются за пределы окружающих их клеток и управляют развитием целостных организмов, а следовательно, и термитников, разве не точно так же практически неизбежно, что и гены симбионтов тоже будут отбираться по способности оказывать фенотипическое воздействие на окружение? И разве сюда не будет входить расширенное фенотипическое воздействие на клетки, а следовательно, и на организмы, термитов, на их поведение и даже на термитники? Если так рассуждать и дальше, то не может ли возникновение эусоциальности в отряде Isoptera быть истолковано как приспособление не столько самих термитов, сколько их микроскопических симбионтов?
В этой главе идея расширенного фенотипа была опробована: сперва для генов отдельной особи, затем для генов различных, но близкородственных особей, членов одной семьи. Теперь, похоже, логика рассуждений приводит нас к мысли о таком расширенном фенотипе, который управляется совместными и не обязательно сотрудничающими усилиями генов неродственных друг другу особей, принадлежащих к разным видам и даже к разным царствам. Именно в этом направлении мы и продолжим наше путешествие.
| <<< Назад Приступособление пятое |
Вперед >>> Глава 12. Гены паразитов — фенотипы хозяев |
- Предисловие научного редактора
- Предисловие
- Примечание ко второму изданию
- Глава 1 Куб Неккера и буйволы
- Глава 2. Генетический детерминизм и генный селекционизм
- Глава 3. Пределы совершенства
- Глава 4. Манипуляции и гонка вооружений
- Глава 5. Активный репликатор зародышевого пути
- Глава 6. Организмы, группы и мемы: репликаторы или транспортные средства?
- Глава 7. Эгоистичная оса или эгоистичная стратегия?
- Глава 8. Отщепенцы и модификаторы
- Глава 9. Эгоистичная ДНК, скачущие гены и призрак ламаркизма
- Глава 10. Головная боль в пяти «приступособлениях»
- Глава 11. Генетическая эволюция артефактов животных
- Глава 12. Гены паразитов — фенотипы хозяев
- Глава 13. Действие на расстоянии
- Глава 14. Заново открывая организм
- Послесловие. Дэниел Деннет
- Список цитированной литературы
- Список рекомендуемой литературы
- Содержание книги
- Популярные страницы
- Генетическая грамматика
- Знаки препинания (Генетическая пунктуация)
- Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий
- Глава 4 Эволюция на наших глазах
- Эволюция под управлением компьютера
- Эволюция, повернувшая вспять
- Расселение животных
- § 9. Строение и эволюция Вселенной
- Мир животных. Насекомые. Пауки
- Мир животных. Том 2
- Эволюция человека том 2 Обезьяны нейроны и душа 2011
- Эволюция человека. В 2 книгах. Книга 1. Обезьяны, кости и гены