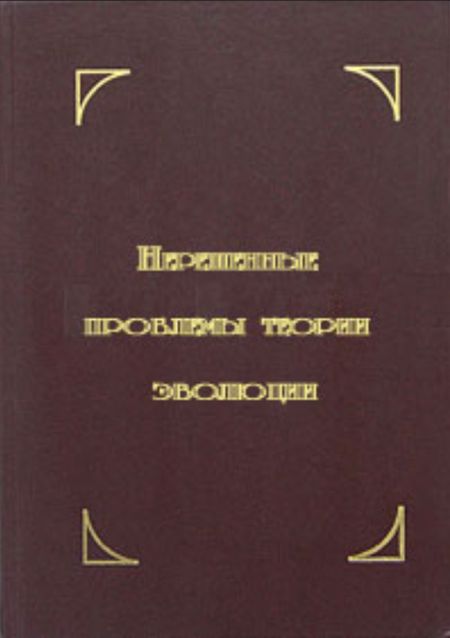Книга: Нерешенные проблемы теории эволюции
ОТ ПЛАТОНА К ГЕРАКЛИТУ
| <<< Назад ЭСХАТОЛОГИЯ |
Вперед >>> ГУМАНИЗМ И БИОСФЕРИЗМ |
ОТ ПЛАТОНА К ГЕРАКЛИТУ
Чтобы эффективно выполнять функцию сохранения и продления человеческой жизни, культура сама должна обладать известной устойчивостью. Поэтому приверженность культурным традициям имеет позитивное значение, во всяком случае до определенных пределов. Эволюция культуры, как и любой сложной системы, проходит через серию устойчивых и кризисных состояний. В этом отношении она не отличается от эволюции биосферы. В обоих случаях импульсы развития поступают от взаимодействия с другими сопряженно эволюционирующими системами (о роли производственных отношений и политических надстроек в развитии человеческого общества каждому известно со школьной скамьи).
В мире культуры при всем его многообразии есть ключевые идеи, которые как бы поддерживают все громоздкое сооружение. Обычно это самые общие мировоззренческие идеи, отражающие представление человека о его космической роли, о соотношении между его физическим существованием и посмертной жизнью в потустороннем мире или мире культуры, между «я» и «сверх-я». Они организуют, упорядочивают волнующуюся массу идей и образов, влияют на саму структуру мышления, которая в свою очередь, по принципу обратной связи, накладывает отпечаток на культуру.
Переход к новому этапу эволюции культуры носит более или менее явный кризисный характер. Происходит смена ключевых идей, приводящая в движение всю застоявшуюся систему. Соответственно в каждом кризисе есть свои ключевые фигуры. Благодаря Копернику мы переместились из центра мироздания на небольшую планету второстепенной звезды. В результате мы стали скромнее оценивать свою космогоническую роль. Если раньше человек видел себя в центре противоборства вселенских сил добра и зла, то в свете новой космогонии это представление стало казаться по меньшей мере преувеличенным. Плоскость симметрии мироздания теперь уже не проходила между душой и телом, которые смогли воссоединиться, возродив цельную личность. Искусство Возрождения представляло эту личность вполне земной, полнокровной и богоподобной в своей вновь обретенной гармонии.
После Дарвина нам пришлось расстаться с богоподобностью, а вместе с ней и с типологической концепцией идеального человека, на которой держалось ренессансное и производное от него академическое европейское искусство.
Мы уже знаем, что додарвиновская систематика была типологической: считалось, что. каждый вид, род, класс имеет свой. стандарт, соответствующий первоначальному замыслу, а все отклонения от него рассматривались как уродства или «разновидности» (теперь разновидность имеет другой смысл — это часть вида, типологи же исключали ее из вида). Так и для человека предполагалось существование некоего физического, духовного или комбинированного стандарта, образца, и живопись давала нам о нем зрительное представление в виде златокудрых мадонн и одухотворенных спасителей, демонстрирующих на кресте отличную мускулатуру.
Мировоззренческим оправданием физической и духовной стандартизации было представление о богоподобности человека и боговдохновенности моральных и эстетических установок (хотя эти установки исподволь менялись, боги менялись вместе с ними, так что соотношение между прекрасным и божественным сохранялось). Отклонение от стандарта (богоподобности) рассматривалось как следствие плохого поведения (греховности). Младенцы соответственно считались наиболее бого(ангело)подобными, поощрялось сохранение младенческих признаков во взрослом состоянии — физический и духовный педоморфоз (раннее христианство ориентировалось в основном на убогих и нищих духом; в самом Иисусе подчеркивались педоморфные черты, преломленные в культе мадонны: бог изображался или младенцем, или, в сцене оплакивания, снова на коленях у матери в виде большого ребенка).
Искусство, таким образом, утверждало неизменность как физического облика человека, так и его духовных ценностей. Во второй половине XIX в. технический прогресс, быстрое изменение образа жизни подготовили умы к признанию неизбежности эволюции в материальной сфере. Тем настойчивее пропагандировалась, в частности средствами искусства, незыблемость общечеловеческих духовных ценностей.
В силу всего этого две идеи могли оказать очень сильное влияние на эволюцию эстетики. Первая — что мы «не падшие ангелы, а кузены обезьяны» (Шоу) и приобрели свой внешний облик в результате сложного и отнюдь не безболезненного процесса эволюции. Вторая — что животное происхождение оставило следы не только в физическом облике (с чем еще можно было бы примириться, учитывая христианское пренебрежение телесным), но и в психике, в духовной жизни, также подлежащей эволюции, что духовные ценности, вопреки устоявшимся взглядам, не являются ни неизменными, ни врожденными (3. Фрейду понадобилось все мужество ученого, чтобы отстаивать теорию младенческой сексуальности, вызвавшую даже большее смятение умов, чем обезьяний вопрос). Искусство продолжало по инерции штамповать образцы, но интерес к ним падал. В какой-то момент более интересным оказалось импрессионистическое отражение зыбкой, ускользающей в непрестанном обновлении жизни, означающее крутой поворот от Платона к Гераклиту, начало эрозии эстетических стандартов, которые проложили столь глубокие колеи в нашем сознании, что, казалось, мы способны только автоматически восторгаться тем, чем восторгались многие поколения до нас. Открылась возможность более свободного художественного самовыражения, приведшая к значительному расширению сферы прекрасного, как бы растеканию эстетического чувства, сопряженного с моральным.
Чувство прекрасного играет столь ответственную роль в формировании человеческой души, что наша попытка связать его с трансформированным половым влечением и чувством страха (в свою очередь берущим начало в инстинкте самосохранения, прогрессивно развивающемся в ходе эволюции) может показаться циничным принижением этой важнейшей человеческой ценности. Но, в то же время, яснее становится всегда казавшийся загадочным источник эмоциональной силы прекрасного, смутная, уклоняющаяся от рационального анализа основа эстетического чувства, отличающая его от непосредственных, не испытавших столь сложных трансформаций человеческих чувств. А также его многогранность: ведь преодоление страха (смерти) может выглядеть как торжество света над тьмой, замена хаотического упорядоченным, чуждого знакомым, приручение, освоение, пропускание через себя, очеловечивание (вспомним крайний антропоцентризм античной эстетики, овидиевские и есенинские метаморфозы нимфы — лавра, девушки — березы, юноши — клена, антропоморф-ность природы в народных песнях и сказках). Пока трансформация не стала автоматической, для ее осуществления требуется система специальных действий и символов, называемая искусством. Таков, кажется, подлинный смысл банальной мысли о том, что прекрасное — цель искусства и что без него наша жизнь была бы слишком страшной. Танцующий журавль, танцующий шаман, танцующая Айседора Дункан делают, можно сказать, общее дело, но если профессиональная танцовщица работает с уже в значительной мере покоренным материалом, прошедшим длительный путь эстетизации, то журавль близок к первоистокам искусства, а шаман вскрывает суть его, вступая в единоборство со страшным.
Намеченная Гегелем последовательность развития элементов культуры: искусство — религия — философия кажется слишком условной, так как зачатки их имелись уже в дочеловеческих сообществах и дальнейшая эволюция была сплетена в единую систему взаимодействий с обратной связью. Абстрактные идеи с трудом переваривались древним человеком (как, впрочем, и современным), требуя образного воплощения. Уже наименование объекта содержало абстрагированное представление о нем. Присвоение имени нередко рассматривалось как покорение, приручение, между именем и его носителем усматривалась мистическая связь (и сейчас номенклатура относится скорее к области искусства, чем науки). Мы склонны рассматривать мифопоэтические образы древних как произведения искусства, но они, в отличие от позднейшего искусства, относились не к конкретному, а к общему, не к вещам, а к представлениям, идеям, соединяя понимание явления с отношением к нему. Словом, это были слитые воедино искусство — религия — философия.
Основным объектом эстетизации, противостоящей страху смерти, неизбежно должно было стать то, что дает жизнь, и казалось бы, наиболее естественный выбор должен был пасть на женское тело, что и происходило на определенных этапах развития искусства. Однако в эпоху родового строя женщина рассматривалась как не более чем «сосуд»— нечто вроде колбы или цветочного горшка, в который помещается семя, ее вклад в рождение новой жизни расценивался как пренебрежимо малый по сравнению с вкладом мужчины (шумеры, греки, евреи в этом отношении были вполне согласны друг с другом). Соответственно эстетизировалось преимущественно мужское тело. Таким образом, выбор объектов эстетизации не был случайным.
Древние греки пытались дать теоретическое обоснование своих эстетических пристрастий, используя геометрию (человеческое тело с прижатыми руками — треугольник, с распростертыми руками и ногами — квадрат и т. п.) и пифагорейскую мистику чисел (три — в лице три равных части: лоб, нос, челюсти; шесть — в длине тела шесть ступней и т. д.). Они настолько преуспели в этом, что представление о пропорциях, симметрии как главных проявлениях красоты все еще с нами. В то же время пифагорейцы черпали в эстетике оправдание своих упражнений с числами, усматривая в упорядоченности мироздания, выраженной математически, проявление прекрасного и, стало быть, божественного. Таким образом было положено начало отождествлению прекрасного с истинным. Научные открытия вызывали переживания, мало отличающиеся от эстетических. Сократ в «Кратиле» Платона [1968, с. 459] говорит, что «прекрасное — это имя разума, так как именно он делает такие вещи, которые он с радостью так называет».
Взаимосвязь между религией и эстетикой своеобразно преломляется в эволюции богов, подтверждающей наш тезис о трансформации страшного. В древнеегипетском, греко-римском, иудейско-христианском пантеонах на смену богам-монстрам первого поколения, как правило, приходят человекообразные боги, причем степень их человекообразности явно зависит от эстетических установок (для древних греков не могло быть ничего более прекрасного, чем человек идеальных пропорций, но восточной эстетике, кажется, свойственно предпочтение «герметичной» радиальной симметрии перед билатеральной — отсюда многорукие, многолицые божества; замечу, что радиальная симметрия чаще встречается среди низших форм жизни, в античной мифологии — среди низших и очень древних божеств).
Вполне очевидна нормативность исходных эстетических представлений. Несмотря на убеждение в божественности всей природы, трудно было не считать уродливыми животных — паразитов человека. Эстетически негативную реакцию вызывали и животные — конкуренты древнего человека, например обезьяны, тогда как отношение к опасным для человека хищникам было эстетически позитивным — в них усматривали нечто царственное и, следовательно, прекрасное: иерархическое чувство не осталось непричастным к эстетике.
Таким образом, искусство — это механизм формирования человеческих чувств на базе более древних животных чувств, в частности эстетического на базе полового влечения и страха, религиозного на базе иерархического, морального на базе инстинкта самосохранения, а также территориального и родительского инстинктов. Близкие по происхождению, они сцеплены между собой и вместе образуют эмоциональную связь между человеком и потусторонним идеальным миром — источником ценностных ориентиров и целевых установок. Искусство, таким образом, играет огромную роль, формируя эмоциональную упаковку смысла жизни, без которой он утратил бы привлекательность. С его помощью эстетизируются, во-первых, «я» и затем «сверх-я»— проекция личности на ее природное и человеческое окружение, включая родные места, знакомые предметы, членов семьи и т. д. Этот отвоеванный у вселенского хаоса мирок упорядоченных отношений воспринимается как средоточие прекрасного, противостоящего чуждому, хаотическому, безобразному.
Красота настолько прочно ассоциируется с упорядоченностью, что и научная идея, высвечивающая порядок в хаосе явлений, вызывает эстетическое переживание, роднящее науку с искусством. Эмоциональная упаковка, очевидно, во много раз усиливает приверженность любой абстрактной — научной, философской — идее. Эволюция искусства и чувства прекрасного неразрывно связана системой сложных взаимодействий с эволюцией фундаментальных философских идей, представлений о смысле жизни.
Круг позитивных эстетических оценок у древнего человека был, очевидно, гораздо уже, чем у современного. В этом выражается направленность эволюции эстетического чувства. Ни античное искусство, ни искусство Возрождения не испытывало никакого благоговения перед дикой, нетронутой природой, воспринимаемой скорее как враждебная сила. Эстетический интерес к дикой природе пробудился лишь в эпоху романтизма, отвергнувшего классическую упорядоченность, открывшего красоту неясного, изменчивого, хаотичного. Теория Дарвина эстетически принадлежит романтической традиции. Хрупкие окультуренные пейзажи Рафаэля явно не имеют отношения к борьбе за существование в дикой природе, здесь нужен Дж. Тэрнер, современник Дарвина.
Последующая интеллектуальная эволюция человека потребовала дальнейшего раздвигания классических рамок прекрасного. Однако рамки эти, принимаемые многими поколениями людей, приобрели такую жесткость, что раздвинуть их можно было лишь революционным путем, по гегелевской схеме отрицания и затем отрицания отрицаний. В стабильной общественной системе искусство используется главным образом для укрепления желательных чувств. Многократно вызываемые одними и теми же средствами, они легко проходят по мощеной дороге нейронных связей, тогда как новые чувства и новые средства выражения не находят дороги к неактивным нейронным областям (даже предельно интенсивные и сильно выраженные чувства могут полностью игнорироваться, как это случилось в свое время с живописью Ван Гога). Для изменения ситуации необходимо сильное эмоциональное потрясение (одно из средств — эпатажное искусство), связанное с ломкой устоев традиционной культуры.
Презрение к пропорциям, пренебрежение гармонией, восстание против антропоморфизма и верности натуре (ведь требование верности натуре восходит к убеждению, что натура — творение бога, художник не может ни превзойти его, ни даже сравниться с ним, ему отведена роль усердного копииста), утверждение права художника создавать некую новую действительность в конечном счете открыли почти безграничные возможности самовыражения индивида и в качестве творца, и в качестве потребителя произведений искусства.
Произведения классического искусства содержали некое послание (например, утверждение идеалов красоты, доблести, силы духа и т. п.), имевшее общий смысл для всех людей или по крайней мере для всех воспитанных в данной художественной традиции и восприимчивых к ее символике. Они, таким образом, объединяли людей в общих чувствах — главная функция искусства, по Л. Н. Толстому (заметим, что способы формирования эмоциональной общности существуют и в дочеловеческих сообществах; так, в стаде обезьян постоянное похрюкивание создает эмоциональный фон, способствующий быстрой однообразной реакции на внешние стимулы).
Типологическое искусство бесспорно имело какое-то позитивное значение для формирования человеческой души. Но вспомним, когда Гете опубликовал «Страдания юного Вертера», десятки немецких юношей покончили жизнь самоубийством. Сколько их было бы в условиях всеобщей грамотности и массовых тиражей? Не указывает ли феномен Вертера на необходимость кардинального пересмотра основных принципов эстетики?
Модернистское искусство принципиально отличается от классического тем, что его послание не имеет общего для всех смысла, оно рассчитано на индивидуальное восприятие, т. е. приобретает то или иное значение, ту или иную эмоциональную определенность в зависимости от индивидуальности реципиента, помогая этой индивидуальности проявиться, сливаясь с нею и тем самым укрепляя ее (трудность для современного человека заключается главным образом в отказе от эстетических шаблонов, кбторые контролируют его восприятие, направляя эстетический импульс по накатанной колее; при такой высокой паттернизированности восприятия шаблонный смысл может быть усмотрен в чем угодно, даже в чистом листе бумаги).
Мне трудно согласиться с довольно популярным представлением о том, что в истории искусства нет определенной направленности, нет прогресса, что произведения старых мастеров не хуже (лучше, если уж сравнивать) современных, что классицизм по художественным достоинствам ни в коей мере не уступает романтизму, а этот последний — модернизму. Я нахожу некую общность в направлениях биологического прогресса — от группового сохранения к сохранению индивида, каждой жизни, и развития искусства — от всеобщих эстетических стандартов к индивидуальному эстетическому опыту. Нисколько не принижая достоинств классического искусства, следует, очевидно, признать, что современное искусство в большей степени адаптировано к более сложным отношениям человека с окружающим его миром, к возросшей индивидуализации, развитию которой оно в свою очередь помогает. Раскрепощая творческие способности и расширяя сферу прекрасного, современное искусство способствует сохранению разнообразных форм физической и духовной жизни, достижению ими практического бессмертия в мире культуры.
Кажется, и наука, исчерпав со временем свое восхищение перед эмпирическими обобщениями, выступающими сейчас в роли вселенских законов, вернется, на новом уровне, к индивидуальному как исходной ценности. Мы начали интересоваться общим, очевидно желая на фоне его лучше понять конкретное. Однако в силу свойственного всем эволюционным процессам смещения ценностей (гл. II) общее с течением времени превратилось в основную цель науки, единичное же отметалось как не представляющее интереса (вспомним замечание Э. Резерфорда о коллекционировании почтовых марок). Модельный мир идеальных объектов и суждений о них создавался для исследования отдельных сторон действительности, но его причудливое развитие привело к такой переоценке ценности, что теория о реальных вещах сейчас не считается состоявшейся без «онтологизации» в этом платоническом мире. Вероятно, это была необходимая стадия развития науки, но она уже, кажется, близка к завершению. Мы должны вспомнить о первоначальном смысле поисков общего, вернуться к исходным ценностям.
Помочь в этом может лишь последовательное проведение принципа историзма. Если объекты познания имеют историю, развиваются, то не может быть всеобщих онтологических законов — они тоже изменяются. Уже это соображение Снижает патетическое звучание законов и показывает, что они нуждаются в историческом объяснении, которое, может быть, важнее самого закона. Далее, ни одно историческое событие не тождественно другому, хотя их индивидуальность выражена в разной степени и не всегда очевидна. Уже сейчас ощутимы потери, которые приносит нам пренебрежение единичным (выводы Менделя одно время иронически называли «гороховыми», ведь он и сам не смог подтвердить их на ястребинке; прыгающие гены, открытые Б. Макклинток, считали каким-то курьезом, свойственным только кукурузе, — это задержало их изучение на десятки лет; открытию генотрофии у одного сорта льна-долгунца и сейчас не придают значения).
Человеческий вид решает проблему выживания путем познания, поэтому наука стала его главным приспособительным средством. Тем более парадоксально сохранявшееся вплоть до недавнего времени саркастическое, смешанное со страхом отношение к ученому, которого в литературе изображали то никчемным кузеном Бенедиктом, то зловещим Стэплтоном (между прочим, оба — энтомологи). Бокаччо, Мольер, Стендаль, Диккенс, даже Гете (профессиональный ученый — не Фауст, а тупица Вагнер) упражнялись в насмешках над ученым. Нескладный, чудаковатый, не такой, как все, он таил в себе смутную угрозу и жизни, и душевному спокойствию, внося разлад, дух сомнения, покушаясь на идеалы, словом, проходил скорее по ведомству дьявола, чем бога.
Современное общество возлагает большие надежды на науку, но главным образом в сфере удовлетворения физических потребностей. В сфере духа влияние науки пока более скромно. Ученый не может, не превращаясь в проповедника, настаивать на незыблемости, непререкаемости своих выводов. Люди, привыкшие получать жесткие предписания и ждущие их, предпочитают проповедника. Более глубокая причина заключается, по-видимому, в том, что в духовной сфере более остро, чем в материальной, ощущается неудовлетворительность законообразных обобщений науки, имеющих дело с массовым, типовым и пренебрегающих единичным.
Освобождение от аксиом, придающих научному построению жесткость и подчас условность, сознательное акцентирование индивидуального, дающее большую свободу развития, могут приблизить науку к человеку, сделать ее более способной решать его духовные проблемы. Наука, наконец, органически — не заученно — войдет в сознание, замещая метафизические представления и консервативный здравый смысл.
В заключение еще раз подчеркнем общее в прогрессе жизни на Земле и человеческой культуры. Биологический прогресс, как мы пытались показать в гл. I, означал переход от сохранения группы за счет высокой смертности особей к сохранению индивида с его неповторимыми особенностями. Искусство, вопреки традиционным представлениям, также имеет сквозную линию развития — от эстетической типологии, создания образцов, выработки средств эмоционального воздействия, вызывающих во всех случаях однотипную реакцию, к раскрепощению и развитию индивидуального эстетического своеобразия. Прогресс науки ни у кого не вызывает сомнений, но связывается обычно с накоплением знаний. Мне кажется более важной качественная сторона науч-. ного прогресса, проникновение в науку историзма, намечающийся сдвиг интересов от общего к индивидуальному. Эти параллельные тенденции вместе определяют эволюцию гуманизма.
| <<< Назад ЭСХАТОЛОГИЯ |
Вперед >>> ГУМАНИЗМ И БИОСФЕРИЗМ |
- Функции белков
- 906. Какие отходы сбрасываются в океан в наибольших количествах?
- Агрессивное поведение и гормоны
- Крохотные ученики
- § 50 Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора
- 57. В каких районах Антарктики США ведут океанографические исследования?
- Гаур (Bos gaurus)
- 966. Что представляет собой стандарт на питьевую воду в США?
- 9.29. СУРИК
- Почвоведение в XX в.
- Признаки приматов
- Черные дыры и молодые вселенные