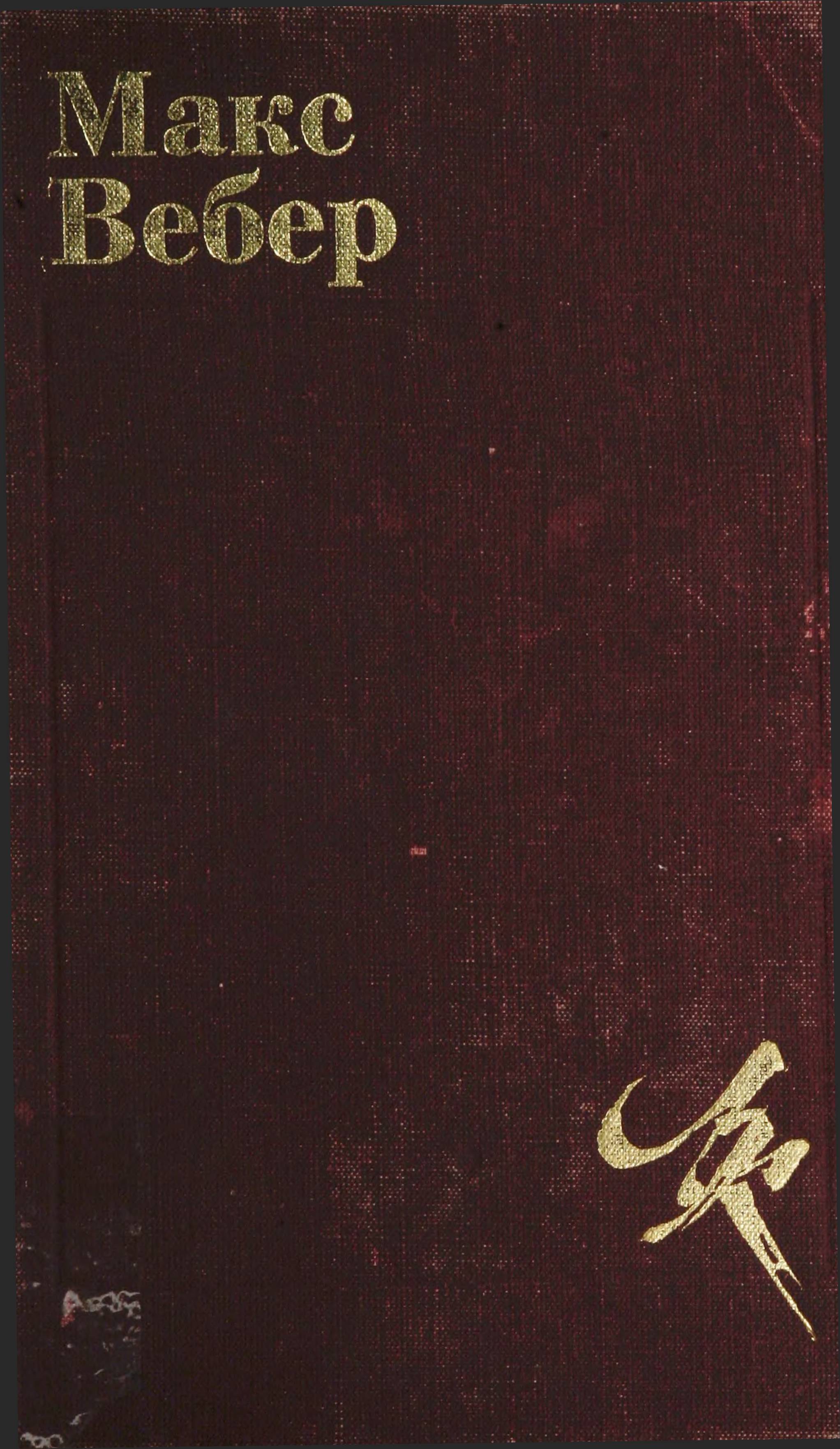Книга: Избранное. Образ общества
2. Основные идеи работы «Протестантская этика и дух капитализма»
| <<< Назад 1. Общая характеристика «Социологии религий» |
Вперед >>> 3. Анализ исследования Вебера о протестантизме со стороны метода |
2. Основные идеи работы «Протестантская этика и дух капитализма»
Эта работа предназначена служить материалом для решения основной проблемы, интересующей Вебера, – проблемы происхождения современного капитализма. Давая, подобно прочим работам Вебера, лишь частичный материал для изучения некоторых сторон этой проблемы, она, однако, сильно отличается от исследования о хозяйственной этике мировых религий тем, что в ней эта проблема составляет непосредственный объект изучения. Речь идет здесь не о хозяйственном строе Китая, Индии и древней Иудеи, как антитезе современного капиталистического хозяйства, а именно об этом последнем. По своему построению «Протестантская этика и дух капитализма» – работа не типологическая (в указанном выше смысле), а конкретно–историческая. Как же подходит Вебер к решению этой проблемы, какая сторона ее интересует его и, наконец, в чем видит он саму проблему? «Современный капиталистический строй хозяйства, – говорит Вебер, – это огромный космос, в который каждый индивидуум как бы врастает с самого своего рождения и который для него – по крайней мере, как для индивидуума – представляется данным в качестве фактически неизменного целого, в котором он принужден жить. Капитализм навязывает отдельному лицу нормы хозяйствования» (RS, I, S. 37).
И в другом месте: «Он представляет собой могущественный космос современного строя хозяйства, покоящегося на технических и экономических предпосылках механического машинного производства; он определяет при помощи принуждения, превосходящего силы индивидуума, стиль жизни всех, кто с самого рождения попал в водоворот его развития, а не только тех, кто принимает непосредственное, прямое участие в экономической приобретательской деятельности» (S. 203).
Но ведь этот «космос» представляет собой, по мнению Вебера, нечто в высшей степени своеобразное, специфическое. Как же он возник? Прежде чем пытаться ответить на этот вопрос, необходимо предварительно отдать себе отчет в том, что же нужно для того, чтобы этот «космос» мог возникнуть и развиваться. Как явствует из всего хода мыслей Вебера, он считает, что капитализму нужны, во–первых, особые, совершенно специфические формы хозяйственной организации, которые мы обычно называем «капиталистически.-,,»», а во–вторых, хозяйствующие субъекты, проникнутые совершенно своеобразной хозяйственной идеологией, которую Вебер называет «капиталистическим духом» (принося, между прочим, свои извинения за этот термин, звучащий, по его мнению, несколько претенциозно) (S. 30).
Вебер не задается вопросом о происхождении капиталистических форм хозяйственной организации, его интересует процесс возникновения той хозяйственной идеологии, которую он называет «капиталистическим духом». Правда, в одном месте Вебер как будто бы прямо заявляет, что происхождение капиталистических форм хозяйства является следствием возникновения капиталистического духа: «Вопрос о движущих силах экспансии современного капитализма, – говорит он, – есть в первую очередь не вопрос о происхождении капиталистически используемых запасов денег, а вопрос о развитии капиталистического духа. Там, где он зарождается и начинает действовать, он создает себе денежные запасы как орудие своей деятельности, а не наоборот» (S. 53). Но если присмотреться к этому заявлению более внимательно, то обнаружится, что Вебер в сущности не ставит вопроса о происхождении капиталистических форм хозяйства и направляет острие против тех экономистов и историков, которые склонны объяснять возникновение капитализма накоплением имущества, как это делали, например, Брентано, Белов и отчасти Зомбарт в своей теории аккумуляции городской земельной ренты. Вебер хочет сказать: нет, не из накопления имущества возник капитализм (ибо в таком случае почему он не возник в античном мире или в эпоху Каролингов?), а само это накопление должно было протекать в каких–то весьма своеобразных условиях, для того чтобы вызвать к жизни современный капитализм. Смысл цитированного заявления Вебера станет нам совершенно ясным лишь после того, как мы в ходе дальнейшего изложения ознакомимся с тем конкретным содержанием, которое Вебер вкладывает в свое понятие «капиталистического духа». Поэтому мы пока оставим его в стороне и возобновим изложение хода мыслей Вебера.
Итак (мы воспользуемся здесь опять словами самого Вебера) «теперешний капитализм, господствующий ныне в хозяйственной жизни, воспитывает и создает в процессе экономического отбора тех хозяйствующих субъектов – предпринимателей и рабочих, – которые ему нужны» (S. 37). Но как возникли эти своеобразные типы хозяйствующих субъектов, т. е. какова была их хозяйственная психология и идеология в самом начале капиталистического развития и под влиянием каких условий она сложилась – вот центральная проблема данного исследования Вебера. Эту проблему можно формулировать, применяя терминологию Вебера, еще и следующим образом: как возник «капиталистический дух»? Однако Вебер намерен проследить не все условия его возникновения, а лишь одно из них. А именно: он ограничивает свою задачу изучением религиозных элементов той идеологии, которая впоследствии, претерпев ряд превращений, стала идеологией промышленного капитализма и его главного носителя – современной промышленной буржуазии.
Это, однако, отнюдь не следует понимать так, будто Вебер хочет дать религиозное объяснение генезиса капитализма: он самым категорическим образом и в самых резких выражениях отвергает такое толкование своих намерений. «Я вовсе не хочу, – говорит он по этому поводу, – защищать тот безумно доктринерский тезис, согласно которому капиталистический дух мог возникнуть лишь в результате известных влияний Реформации или – более того – даже капитализм как хозяйственная система якобы является порождением Реформации. Такую точку зрения делает невозможной раз навсегда уже одно то обстоятельство, что некоторые существенные формы капиталистического хозяйствования, как это всем известно, значительно старше Реформации. Здесь должно быть лишь установлено: играли ли, между прочим, и религиозные влияния какую–нибудь роль (и какую именно) в процессе качественной чеканки и количественной экспансии капиталистического «духа» и какие конкретные стороны культуры, покоящейся на капиталистическом базисе, восходят к ним. При этом ввиду невероятного хаоса перекрещивающихся взаимных влияний, идущих от материального фундамента реформаторских культурных эпох, от свойственных им форм социальной и политической организации и от их духовного содержания, можно поступать лишь следующим образом: прежде всего нужно исследовать, существует ли некоторое «сродство»[646] между известными формами религиозной веры и этикой профессии и призвания и в каких именно пунктах оно существует (RS, I, S. 83).
Связь между религиозными учениями Реформации и тем, что Вебер называет «капиталистическим духом», была подмечена уже давно, задолго до Вебера. Он сам указывает своих предшественников (Лэвли, Метью Арнольда) и, неоднократно ссылаясь на Эд. Бернштейна, подчеркивает, что он был первым исследователем, четко сформулировавшим эту связь в следующих словах: «аскетизм есть буржуазная добродетель» (S. 192, Anm.2; S.160, Anm. 1).
Но Вебер идет дальше: он хочет не только наметить и сформулировать эту связь, но и показать ее закономерность и объяснить ее. «Neu» ist also nicht, da? hier dieser Zusammenhang behauptet wird… sondern umgekehrt seine ganz unbegr?ndete Anzweiflung. Es gilt ihn zu erkl?ren (S. 28, Anm. 3)[647]. Каким же образом Вебер вообще пришел к такой постановке вопроса?
Какие исторические факты заставили его и его предшественников обратить внимание именно на религиозные элементы той идеологии, которая впоследствии стала так характерна для капиталистической буржуазии нового времени? С анализа этих фактов Вебер начинает свою работу. В ходе дальнейшего изложения мы последуем за ним, передавая его мысли и его аргументацию в том порядке, которого он сам придерживается.
Как показывает профессиональная статистика европейских стран со смешанным в отношении вероисповедания населением, капиталисты и предприниматели, а также квалифицированные рабочие большей частью являются протестантами, а не католиками. Этот, на первый взгляд, поразительный факт, по–видимому, легко поддается объяснению: достаточно указать лишь на то, что как раз самые богатые города Центральной Европы были в XVI в. на стороне Реформации; потомки их зажиточных обитателей, принявших протестантизм, унаследовали их привилегированное экономическое положение. Из их рядов вышла значительная часть современных предпринимателей, которые и оказались, таким образом, по своему вероисповеданию протестантами. Однако это простое объяснение отнюдь не исчерпывает вопроса. Ибо остается все–таки непонятным, почему же как раз экономически наиболее прогрессивные области Европы и самые богатые ее города оказались столь восприимчивыми к протестантизму и так сильно предрасположенными к Реформации?
Ведь Реформация означала не уничтожение господства церкви в общественной жизни, а лишь замену одной его формы другой, и притом замену чисто формального, а потому очень удобного и практически мало заметного господства церкви радикальной и очень тягостной церковной регламентацией всего жизненного поведения. «Как же случилось – спрашивает Вебер, – что как раз в экономически наиболее развитых странах буржуазное среднее сословие, находившееся тогда в состоянии экономического подъема, не только терпело ранее неизвестную ему пуританскую тиранию, но даже защищало ее с таким геройством, которое буржуазные классы как таковые редко проявляли до этого и никогда более не проявили впоследствии?» (RS, I, S. 20–21).
И почему в настоящее время в Германии католики редко являются не только крупными предпринимателями, но и фабричными рабочими? Последние рекрутируются в подавляющем большинстве из рядов протестантов, между тем как католики обычно избирают себе какое–либо ремесло.
Мало того, по отношению к католикам в Германии не оправдывается даже то эмпирическое наблюдение, что религиозные и национальные меньшинства, лишенные возможности участвовать в политической жизни, обычно обращаются к приобретательской деятельности. И не только в Германии, но и в Англии, и в Голландии, где католиков одно время преследовали, они не проявили склонности к капиталистической и индустриальной деятельности. Протестанты – и как господствующий, и как подчиненный слой населения, и как большинство, и как меньшинство – везде и всюду обнаруживали и обнаруживают тяготение к экономическому рационализму, в то время как католики не проявили его ни в качестве большинства, ни в качестве меньшинства (RS, I, S. 23).
Уже испанцы XVI столетия знали, что «ересь, т. е. нидерландский кальвинизм, способствует развитию торгового духа». И немецкий ученый нового времени Готейн был прав, когда солидаризировался с ними и назвал кальвинистскую диаспору «школой капиталистического хозяйства». Во французских гугенотских церквах основное число прозелитов составляли монахи, купцы и ремесленники. Протестанты были носителями капиталистической идеологии и в католических странах (например во Франции). Во всех течениях протестантизма выступает одна и та же специфическая особенность: «персональное совпадение виртуозной капиталистической деловитости с самыми интенсивными формами набожности, пропитывающей и регулирующей всю жизнь данных лиц и групп» (S. 26). Это совпадение особенно характерно для кальвинизма и как раз для тех направлений англо–американского пуританизма и немецкого протестантизма, которые отличались повышенно отрицательным отношением к радостям жизни, т. е. для квакеров, пиетистов, меннонитов. Из этого явствует, что объяснение родства капиталистических черт протестантской идеологии с ее религиозными особенностями следует искать именно в самом содержании протестантской набожности, причем нужно исследовать не только ее религиозный идеал, но и то практическое влияние, которое этот идеал оказывал на жизненное поведение его адептов. Еще Монтескье сказал об англичанах, что они «превосходят все остальные народы мира в трех весьма существенных отношениях: в набожности, торговле и свободе».
«Не стояло ли их превосходство в области приобретательской деятельности в какой–нибудь связи с тем рекордом набожности, который признает за ними Монтескье?» – спрашивает Вебер, указывая тем самым то направление, в котором он будет искать решение ранее поставленного вопроса о причинах восприимчивости буржуазии к протестантизму. «Стоит только поставить вопрос именно так, – продолжает Вебер, – и перед нами встанет целый ряд возможных отношений, пока еще не вполне осознанных, а лишь смутно воспринятых. Наша задача и будет теперь заключаться в том, чтобы то, что сейчас проносится перед нашим умственным взором в неясных очертаниях, формулировать с такой отчетливостью, какая вообще достижима при анализе неисчерпаемого многообразия, заключающегося в каждом историческом явлении» (S. 29–30). Итак, предстоит вскрыть родство религиозного учения протестантизма с капиталистической идеологией. А для этого необходимо уяснить ее содержание, дать себе отчет в том, что такое «капиталистический дух».
Но «капиталистический дух» представляет собой «исторический индивидуум», т. е. «комплекс связей, которые существуют в исторической действительности и которые мы в понятии соединяем в одно целое, под углом зрения их культурного значения» (RS, I, S. 30). Такое историческое понятие Вебер считает невозможным дефинировать по схеме genus proximum, differentia specifica и предпочитает уяснить его содержание в ходе исследования. Но для предварительной иллюстрации того, о чем будет идти речь, он приводит выписки из двух сочинений Вениамина Франклина: «Необходимые предостережения для тех, кто хотел бы разбогатеть» (1736) и «Советы молодым купцам» (1748)[648]. Так как эти цитаты необходимы для понимания самого предмета исследования, то и мы воспользуемся ими как исходным пунктом изложения дальнейшего хода мыслей Макса Вебера.
«Помни, что время – деньги, – говорит Франклин, – тот, кто мог бы ежедневно зарабатывать по 10 шиллингов и тем не менее полдня гуляет или лентяйничает у себя в комнате, должен, если он расходует на себя всего только 6 пенсов, учесть не только этот расход, но считать, что он истратил, или, вернее, выбросил сверх того еще 5 шиллингов. Помни, что кредит – деньги. Если кто–нибудь оставляет у меня еще на некоторое время деньги, после того как я должен был заплатить их ему, то он дарит мне свои проценты или дарит мне столько, сколько я могу заработать при их помощи за это время. А это может составить значительную сумму, если у человека хороший и обширный кредит и если он умеет хорошо пользоваться им. Помни, что деньги по природе своей плодоносны и способны порождать новое. Деньги могут родить деньги, и их отпрыски могут породить еще больше и так далее. 5 шиллингов, пущенные в оборот, дают 6, а если эти последние опять пустить в оборот, будет 7 шиллингов 3 пенса и т. д., пока не получится 100 фунтов стерлингов. Чем больше у тебя имеется денег, тем больше денег порождают они в обороте, так что выгода растет все быстрее и быстрее. Кто убивает супоросую свинью, тот уничтожает все ее потомство, вплоть до тысячного ее члена. Кто изводит одну монету в 5 шиллингов, тот убивает (!) все, что она могла бы произвести: целые колонны фунтов стерлингов. Помни, что, по пословице, хороший плательщик – господин кошелька каждого человека.
Тот, о ком известно, что он всегда аккуратно уплачивает в условленное время, может всегда занять у своих друзей деньги, которые им в данный момент не нужны. А это иногда бывает очень выгодно.
Наряду с прилежанием и умеренностью ничто не помогает в такой степени молодому человеку завоевать себе положение в жизни, как пунктуальность и справедливость во всех его делах. Поэтому никогда не задерживай взятые тобою взаймы деньги хотя бы на один час сверх условленного срока, чтобы гнев твоего друга не закрыл для тебя навсегда его кошелек.
Следует учитывать самые незначительные действия, оказывающие влияние на кредит. Удары твоего молотка, которые твой кредитор слышит в 5 часов утра и в 8 часов вечера, вселяют в него спокойствие на целых шесть месяцев; но если он увидит тебя за бильярдным столом или услышит твой голос в трактире в то время, когда ты должен был бы работать, то он на следующее же утро напомнит тебе о платеже и потребует свои деньги в тот момент, когда у тебя их не окажется.
Кроме того, аккуратность показывает, что ты помнишь о своих долгах, т. е. что ты не только пунктуальный, но и честный человек, а это увеличивает твою кредитоспособность.
Берегись считать своей собственностью все, что ты имеешь, и жить соответствующим образом. В этот самообман впадают многие люди, имеющие кредит. Чтобы избегнуть его, веди точный учет твоих издержек и поступлений. Если ты дашь себе труд обращать внимание на все мелочи, то это будет иметь следующий хороший результат: ты обнаружишь, какие изумительно маленькие издержки могут вырастать в огромные суммы, и ты заметишь, что можно было бы сберечь в прошлом и что можно будет сберечь в будущем»[649].
«За 6 фунтов стерлингов годового процента ты можешь получить в пользование 100 фунтов, если только ты известен как человек умный и честный. Кто тратит без всякой пользы один грош в день, тот тратит бесплодно б фунтов стерлингов в год, а это – плата за право пользования 100 фунтами стерлингов. Кто ежедневно тратит часть своего времени стоимостью в один грош – пусть это будет всего несколько минут, – тот теряет в общей сумме дней возможность использовать 100 фунтов стерлингов в течение года. Тот, кто бесплодно растрачивает время стоимостью в 5 шиллингов, теряет 5 шиллингов и мог бы с тем же успехом бросить их в море А кто теряет 5 шиллингов, теряет не только эту сумму, но все, что можно было бы заработать, вложив ее в дело; а это могло бы составить к его старости довольно значительную сумму»[650].
Так проповедует моралист Франклин. Как стала возможна моральная проповедь такого содержания? И что в этой проповеди делает ее проявлением «капиталистического духа»? Конечно, не стремление к наживе, не скупость и алчность, ибо эти черты сами по себе характерны как раз для хозяйственной идеологии докапиталистических эпох. Из них слагается этика традиционализма, с которым капиталистическому духу в его победоносном шествии пришлось вести жестокую борьбу. Две основные особенности проповеди Франклина делают ее классическим образчиком капиталистической, идеологии: идея призвания (Beruf) как цели жизни и сверхличная трансцендентная концепция наживы.
Каждый человек должен выполнять свой долг, этот долг заключается в том, чтобы быть дельным работником в своей профессии, чтобы знать твердо свое место, призвание и работать во имя его и только во имя его не покладая рук. Применительно к купцу и предпринимателю это понимание долга модифицируется следующим образом, следует работать, чтобы процветала человеческая деятельность данной профессии, т. е. нужно наживать деньги для того, чтобы наживать еще деньги, и т д. Нажива денег – самоцель; «человек существует для приобретательства, которое является целью его жизни, а не приобретательство служит человеку как средство удовлетворения его материальных потребностей» (RS, I, S. 35–36). На вопрос, для чего же «надо делать из людей деньги», Франклин, сам уже неверующий, отвечает, однако, в своей автобиографии библейским изречением, которое ему часто повторял его отец–кальвинист: «Если ты увидишь человека дельного в выполнении своего призвания, то поставь его превыше королей». «Приобретение денег, поскольку оно протекает в легальной форме, при современном хозяйственном строе является результатом и выражением деловитости человека в своем призвании, и эта деловитость составляет альфу и омегу всей морали Франклина» (RS, I, S. 36).
Нажива денег как самоцель противопоставляется всякому непосредственному их потреблению, «освобождается от всяких эвдемонистических или гедонистических точек зрения и становится по отношению к «счастью» или «выгоде» отдельного индивидуума чем–то совершенно трансцендентным и даже просто иррациональным». Итак, трансцендентное понимание наживы и Beruf тесно переплетаются в своеобразном хозяйственном этосе Франклина (S. 35). «Это – рационализация во имя иррационального (с некапиталистической точки зрения.-А. Н.) жизненного поведения». Ибо понятие «рациональный» многозначно. «Нечто является иррациональным не само по себе, а с определенной рациональной точки зрения. Для нерелигиозного человека иррационально всякое религиозное жизненное поведение, так же как для гедониста – аскетический образ жизни; но если мерить эти типы жизненного поведения по масштабу их собственной ценности, то они представятся как различные виды рационализации жизни» (S. 35, Anm. 1).
Но именно поэтому развитие «капиталистического духа» нельзя рассматривать только как частное явление в общем процессе развития рационализма. «Ибо жизнь можно рационализировать с весьма различных точек зрения и в очень различных направлениях» (этот простой, но часто забываемый тезис Вебер рекомендует ставить во главу угла всякого исследования о рационализме). «Рационализм – историческое понятие, заключающее в себе целый мир противоположностей» (S. 62). Может существовать и существовал в действительности рационализм, враждебный «капиталистическому духу». «Нас интересует здесь происхождение как раз иррациональных элементов понятия Beruf» (S. 62). С точки зрения личного счастья, конечно, совершенно иррациональна та мотивировка, которой современный капиталист мог бы обосновать смысл своей бесконечной погони за наживой, а именно – что он не может жить без своего дела и постоянной работы в нем. Ибо такая мотивировка означает в сущности, что человек живет для своего дела, а не наоборот. А между тем «идеальнотипический» капиталистический предприниматель не имеет, собственно говоря, почти никакого личного удовлетворения, кроме «иррационального ощущения хорошо исполненного призвания» (S. 55). (Стремление к власти над людьми свойственно, по мнению Вебера, лишь немногим романтикам и поэтам среди капиталистов и является, как и стремление к роскоши и личному богатству, признаком декаданса, проявлением упадка капиталистической идеологии.)
Современный капиталист лишен всяких остатков религиозности, так же как и Франклин уже был лишен их. В наше время капиталистическая идеология является лишь продуктом непосредственного приспособления к потребностям капиталистического хозяйства, и мировоззрение здесь ни при чем. «Капиталистический дух нашел в современном капиталистическом предприятии наиболее адекватную себе форму, так же как капиталистическое предприятие нашло в нем наиболее адекватную своим потребностям духовную движущую силу» (RS, I, S. 49). Но в эпоху возникновения «капиталистического духа» его связь с потребностями хозяйственного развития была значительно сложнее; она была опосредствована религиозными мотивами.
Откуда взялось в самом деле это «иррациональное ощущение исполненного долга»? И не было ли оно в свое время гораздо более осознанным и рациональным, чем теперь? Как объяснить, что в Массачусетсе XVIII в. и в некоторых американских колониях XVII в. уже сложилась капиталистическая идеология, несмотря на то, что там господствовали мелкобуржуазные отношения, крупные промышленные предприятия почти отсутствовали, банки были лишь в зародыше и всей экономике этих колоний постоянно грозил натуральнохозяйственный коллапс? И как объяснить исторически, что в центре капиталистического развития тогдашнего мира, во Флоренции XIV–XV вв., в этом рынке денег и капиталов всех крупнейших политических сил, считалось нравственно сомнительным или только терпимым то, что рассматривалось как содержание нравственно похвального и даже обязательного образа жизни в Пенсильвании XVIII в.? (S. 60). Другими словами: почему во Флоренции, в этом крупном банковском центре, католические богословы только терпимо относились к деятельности купцов, а церковь хотя и шла навстречу материально связанным с нею денежным силам итальянских городов, но считала именно «дух приобретательства» позорным.
На все эти вопросы Вебер ищет ответа в истории и содержании тех религиозных мотивов, которые были формирующими моментами иррациональных составных частей капиталистической идеологии. При этом он формулирует свою основную точку зрения на роль и значение этих мотивов следующим образом: «Этика, коренящаяся в религии, обещает за обусловленное ею поведение психологические премии (не экономического характера), которые являются чрезвычайно действенными до тех пор, пока жива религиозная вера… Лишь постольку, поскольку эти премии действуют, и притом, что самое главное, – лишь в том, уклоняющемся от учения богословов направлении, в котором они действуют, религиозная этика приобретает самостоятельное влияние на жизненное поведение и через него – на хозяйство» (RS, I, S. 38; Anm. 1; S. 40).
Однако эти психологические премии могут быть весьма различны. Реформация создала своеобразные премии, незнакомые католичеству, – премии за мирскую работу человека в его Beruf. Она чрезвычайно усилила нравственный акцент именно на этой работе и тем самым создала самое понятие Beruf в современном его значении. В теперешнем немецком слове Beruf, как и в английском calling, означающем и профессию, и призвание одновременно, звучит наряду с другими мотивами и религиозный мотив – представление о поставленной Богом задаче. Подобное понятие Beruf отсутствовало как у католических народов, так и у народов классической древности – поэтому почти во всех древних и решительно во всех новых языках нет соответствующего слова для обозначения этого понятия. Лишь в древнееврейском и латинском языках имеются слова, приближающиеся по своему значению к немецкому Beruf. То, что на немецком языке обозначается этим словом, т. е. «длительная деятельность человека в какой–либо профессии», которая обычно является для него 20 вместе с тем и источником дохода, а тем самым длительной экономической основой его существования, на латинском языке выражают наряду с бесцветным словом opus и слова: officium, munus, professio (RS, 1, S. 63, Anm. 1; S. 64). Последние термины по своему этическому содержанию нередко приближаются к немецкому Beruf; но глубокая разница между ними и понятием Beruf заключается в том, что они лишены всякой религиозной окраски и имеют исключительно посюсторонний смысл
Первую религиозную концепцию понятия Beruf дал Лютер. Но и у него оно все–таки оставалось до известной степени традиционно окрашенным. По Лютеру, Beruf – это то, что человек должен принимать как божеское установление, которому он должен пассивно подчиняться. Эта идея даже перевешивает у Лютера представление о Beruf как о главной и единственной задаче человеческой жизни, активное разрешение которой в процессе неустанного труда задано Богом. Дальнейшее развитие ортодоксального лютеранства усилило это пассивное толкование понятия Beruf. Правда, и такое толкование уже внесло нечто новое, но это новое носило чисто негативный характер: лютеранская концепция Beruf лишь уничтожила примат аскетического долга над мирскими обязанностями, но она не была враждебна проповеди послушания по отношению к властям и пассивного приятия данной житейской обстановки. Только кальвинизм и пуританство покончили с остатками традиционализма в толковании понятия Beruf и создали такую его концепцию, которая и послужила религиозной основой капиталистической психологии и идеологии.
Это не значит, конечно, что Кальвин или основатели пуританских сект (Менно, Фокс, Уэсли) сознательно ставили себе целью пробуждение «капиталистического духа». Ибо им были чужды не только капиталистические интересы, но и чисто этические программы. «Исходным пунктом их жизни и деятельности было спасение души. – говорит Вебер. – Их этические цели и практические результаты их учения всецело коренились именно в этом исходном пункте и были лишь следствиями чисто религиозных мотивов». Но «культурные воздействия Реформации явились в значительной мере как непредвиденные и нежелаемые самими реформаторами по–следствия их работы; они часто были очень далеки от того, что проносилось перед умственным взором реформаторов, а иногда и прямо противоположны их намерениям». «Наше исследование, – прибавляет Вебер, – могло бы послужить скромным вкладом в решение вопроса о том, как вообще действуют идеи в истории, и могло бы дать материал для конкретной иллюстрации этого процесса» (RS, I, S. 82). Это заявление Вебера совершенно законно, ибо в следующей части своей работы он дает блестящую характеристику того, как идеи пуританства сыграли огромную роль в историй, превратившись постепенно в свою собственную противоположность под давлением потребностей экономического развития.
Вебер ставит в связь с происхождением «капиталистического духа» следующие направления протестантизма: 1) кальвинизм, получивший в XVI–XVII вв. распространение в Нидерландах, Англии и Франции; 2) пиетизм, выросший на почве кальвинизма в Англии и Голландии и в конце XVII в. слившийся в лице своего немецкого представителя Шпенера, с лютеранством; 3) методизм, возникший внутри англиканской церкви в середине XVIII в.; 4) перекрещенство и вышедшие из него секты. Всем этим направлениям свойственны были аскетические черты. И все–таки они не были резко отграничены не только друг от друга, но даже и от неаскетических церковных учений Реформации: кальвинизм и перекрещенство, вначале враждебно противостоявшие друг другу, в конце XVII в. тесно соприкоснулись в баптизме, и уже в английском индепендентстве между ними существовал целый ряд переходов, сближавших их друг с другом.
Практическая нравственность всех этих направлений была одинакова. И все же необходимо изучить те различные догматические корни ее, которые впоследствии стали отмирать, но сначала имели большое значение. Только их изучение дает возможность понять, до какой степени вся религиозная и практическая этика протестантов определялась идеей потустороннего и как эта идея, модифицируясь в ходе развития, привела к неожиданным психологическим результатам, которые продолжали оставаться в силе и после смерти самой идеи. Ибо хотя религиозное переживание, как и всякое иное, по природе своей иррационально, тем не менее очень важно знать, какова та система мыслей, которая направляет эти переживания по определенному руслу. Не религиозная догма сама по себе интересует Вебера, а ее влияние на иррациональные элементы протестантизма. Они в их практическом проявлении и оказываются в центре его внимания. Вебер изучает все намеченные выше направления протестантизма, но так как религиозная и хозяйственная этика каждого из них представляет собой лишь более или менее ослабленную вариацию того основного лейтмотива, который яснее всего звучит в кальвинизме, то мы ограничимся здесь именно его характеристикой.
Как известно, самой характерной особенностью кальвинизма является учение о предопределении. Вебер задается вопросом, в чем заключалось историческое значение этого догмата, как он произошел и каково его содержание[651]. Исходным пунктом кальвинистского учения о предопределении является своеобразная концепция Бога и мира. Она, в свою очередь, объясняется своеобразием кальвинизма как активной религии спасения. В основе кальвинизма лежит представление о том, что человек может действовать в жизни, надеясь на всемогущую объективную силу Бога, являющегося источником всего. И у Кальвина, и у Лютера в начале их религиозного развития было два представления о Боге: милосердный спаситель Нового завета как–то сочетался у них с деспотическим Deus absconditus. Но если у Лютера первый вытеснил в конце концов второго, у Кальвина, наоборот, победил второй.
Его победа имела огромное значение для дальнейшей эволюции кальвинизма. Кальвинистский Бог – трансцендентное существо, абсолютно свободное в своей воле, которая понятна людям лишь насюлько, насколько Он этого хотел. Почему Он хотел так, а не иначе, людям никогда не может и не должно стать понятным. Всякие попытки в этом направлении – дерзость, богохульство и грех. Бог действует по своим особым законам, свойственным Его непостижимой для нас сущности. Он открывает нам лишь фрагменты вечной истины; мир противостоит Богу как дело Его рук, и изучение этого мира может открыть людям те частицы божественной истины, которые Бог хотел сделать доступными их пониманию: по делам Творца можно познать Его величие, но лишь в той мере, в какой Он сам хотел этого. Поэтому кальвинизм не ставит никаких границ свободному естественнонаучному исследованию природы. По той же причине Богу угодно и устроение социального космоса, в котором живут люди, ибо Он создал мир и людей исключительно для своей славы, для прославления себя, и потому Ему угодна деятельность людей, направленная к совершенствованию людского общежития.
Но все сотворенное людьми само по себе несовершенно. Богу угодна лишь деятельность, направленная к усовершенствованию того, что является делом рук людских, но не самые ее результаты. Ибо в этой деятельности выражается стремление человека к совершенству, к Богу. У человека нет способов иначе проявить его, как путем работы в этом несовершенном, греховном людском космосе. Но, работая в нем, он должен помнить, что работает не для него, а во имя других высших целей. Всякое превращение социальной деятельности в самоцель есть греховное обожествление рукотворного.
В этом противопоставлении трансцендентного, самовластного, самодержавно–деспотического Бога погрязшим в грехе людям и их несовершенным творениям уже заключен собственно in nuce весь догмат предопределения. Наша мысль станет еще более ясной, если мы вспомним, что кальвинизм ведь представляет собой одну из религий спасения души, а следовательно, грозный деспотический Бог должен каким–то образом выступить в роли спасителя несовершенных, греховных людей, которых он по непостижимой для них причине создал таковыми. Как же мыслимо превращение этого Бога в спасителя? Вот этот логический скачок и выполняет догмат предопределения.
«Для проявления своего величия, – читаем мы в «Westminster Confession» (гл. Ill, N2 3), – Бог одних предназначил (predestinated) к вечной жизни, а других к вечной смерти. Тех людей которых Бог предназначил к жизни, Он избрал еще до основания мира для вечного блаженства во Христе, и сделал Он это по вечным и неизменным основаниям, во исполнение своего таинственного решения и свободного хотения своей воли» (№ 5).
Итак, вот каким образом грозный Бог обращается в спасителя: Он спаситель лишь для некоторых, для тех, кого он – совершенно произвольно и по непостижимым соображениям – избрал для вечной жизни, т. е. для потустороннего блаженства. Остальных Он проклял и осудил. Он сделал это не за грехи или заслуги людей, а просто потому, что так хотел. Мало того, Он не дал людям никаких средств для приобретения избранности и даже не указал никаких признаков, по которым человек мог бы судить о том, избран он или проклят, и мог бы отличить избранных от осужденных среди своих спутников на жизненном пути. Ни проповедник, ни церковь* ни крещение, ни исповедь не могут служить орудием спасения: к церкви принадлежат ведь и осужденные. Правда, «вне церкви нет спасения», но это не значит, что церковь способна стать его орудием или дать уверенность в избранности. Каждый верующий должен принадлежать к церкви лишь для того, чтобы не противиться воле Божией: ибо Бог во славу свою создал и церковь и опять–таки для той же цели заставил осужденных принадлежать к ней наравне с избранными. Удостовериться в своей избранности здесь, в течение мирской, земной жизни, вообще нельзя никоим образом, ведь эта избранность относится к потусторонней жизни, а потому дерзко было бы и помышлять о том, чтобы приоткрыть завесу потустороннего мира и проникнуть в тайные решения Бога. Даже Ийсуса Христа далеко не каждый христианин может считать спасителем и искупителем своих грехов, ибо Христос умер только за избранных.
Ближайшим психологическим результатом этой суровой богословской концепции явилась исключительная, дотоле неслыханная внутренняя отъединенность индивидуума (RS, I, 93).
Каждый христианин одиноко идет по своему пути навстречу вечному спасению или вечной гибели. Уже эта, так сказать, первичная концепция учения о предопределении имела важные последствия в области практической этики. Она создала, во–первых, очень своеобразное отношение верующего к окружающим его людям, а во–вторых, оригинальное толкование понятия Beruf. Человек, считающий себя верующим христианином, должен надеяться только на Бога и отнюдь не полагаться на людей: «Проклят тот, кто надеется на людей», – это изречение Иеремии сочувственно цитирует Шпангенберг (S. 96, Anm. З)[652]. Наряду с таким своеобразным человеконенавистничеством на христианской подкладке и в тесном сплетении с ним резко выступает прославление неустанной работы христианина в его Beruf. Мы уже знаем, что Богу угодно устроение рукотворного; но это устроение должно происходить методично, систематически и притом носить чисто деловой и безличный характер, т. е. оно должно протекать в рамках определенного Beruf – иначе ему грозит опасность превратиться из работы ad majorem Dei gloriam в деятельность, направленную к устроению социального космоса во имя его собственных задач (в Kreaturverg?tterung). Как видим, здесь не Бог существует для человека и его спасения, а наоборот, человек для Бога и Его славы.
Но эти две особенности кальвинистской этики, только что отмеченные нами, безмерно усилились и заострились после того, как догмат предопределения пережил некоторую эволюцию.
В эпоху Реформации интересы потустороннего мира оказывали могущественное воздействие на психику религиозного человека. Как же могла выносить широкая масса верующих пуритан суровую богословскую концепцию, которая не давала даже возможности избранным сознавать себя таковыми в отличие от осужденных? Кальвин считал себя орудием Бога и был уверен в своей избранности. Но не у всех могла быть такая прирожденная уверенность, и учение о предопределении осталось бы религией для немногих и не сыграло бы той крупной исторической роли, которую ему суждено было сыграть, если бы не был поставлен и разрешен вопрос о том, как можно приобрести сознание своей, избранности.
Конечно, в самой постановке этого вопроса заключается уже известное смягчение догмата предопределения, но она отнюдь не означает отказа от него, ибо новая концепция этого догмата гласит: нельзя приобрести избранность, нельзя даже точно и раз навсегда удостовериться, избран ты или нет но можно приобрести сознание избранности, которое равняется не знанию, а скорее ощущению своей угодности Богу. Это ощущение и есть certitudo satutis кальвинизма второй формации; приобретение этого ощущения сделалось жизненной целью верующих кальвинистов.
В кальвинистской богословской литературе были намечены два способа достижения certitudo salutis. Первый заключался в следующем: каждому верующему предписывается в качестве его религиозного долга считать себя избранным, а все сомнения толковать как дьявольские искушения. 5 постоянной, непрекращающейся борьбе с этими искушениями, в их непрестанном преодолении и достигается религиозно–этическое оправдание самого сознания избранности, этим путем пошли так называемые «святые», которые рассматривали свою избранность как своего рода сословное качество (здесь аналогия с «сословием» аскетов в католической церкви). Но гораздо большее историческое значение имел второй способ достижения certitudo salutis – при помощи неустанной работы в своей профессии. К этому спосооу богословская мысль кальвинизма пришла следующим путем: божия церковь, церковь избранных, незрима. Но общение Бога с избранными все же происходит, и притом оно может происходить в двух формах: избранные служат либо сосудами божества, либо его орудиями. Яютер склонен был представлять себе общение с ь<лом в первой форме, но Кальвин решительно отверг ее на том основании, что finitum non est сэрах infiniti. Бог лишь проявляет себя в избранных, действует в них и через них. «Их деятельность проистекает из веры, данной им в силу милости божией, а эта вера в свою очередь обнаруживает свое божественное происхождение в характере той деятельности, которая из нее проистекает» (RS, I, S. 108).
Из Библии и отчасти из самого миропорядка можно почерпнуть некоторые указания на то, какие именно дела угодны Богу. Конечно, никакими, даже самыми «богоугодными делами» нельзя себе купить вечное блаженство; но при их помощи можно освободиться от страха за него. Для этого необходим систематический самоконтроль своего ощущения избранности, но не пассивный, а активный контроль: не исповедь Лютера, время от времени возобновляющая утерянное или восстанавливающая поколебленное сознание избранности, а каждодневное практическое разрешение одного и того же вечного вопроса «Избран я или нет?» в самом процессе систематической работы во славу Божию. Все, что делается здесь, на земле, делается для потусторонних целей и только в их свете получает смысл. Но именно поэтому вся земная деятельность должна быть рационализирована до последней степени, ибо только тогда она сможет выражать то стремление рукотворного к совершенству, которое угодно Богу. Бог требует делания добра, возведенного в систему (S. 114), превращенного в идеал земного угождения потустороннему Богу. Поэтому один единственный грех уничтожает все. Все делается во славу Божию (omnia in majorem Dei gloriam), и каждый день верующий член незримой божией церкви должен спрашивать себя: «Избран ли я?» – и отвечать: «Да, я делаю угодное Богу – ergo, я избран».
Это – декартовское cogito ergo sum, перенесенное в этическую сферу (S. 115).
Итак, в учение о предопределении привнесен был со временем новый мотив: доказательства, испытания своей избранности. Уже Августин высказал, по преданию, следующую мысль: Si поп es praedestinatus, fac ut praedestineris. (S. 111, Anm. 1), и эта мысль mutatis mutandis была воспринята кальвинистами. Логически из догмата предопределения можно было бы вывести фатализм. Ног психологически вышло нечто противоположное ему, и именно благодаря идее испытания избранности (Bew?hrung): «как раз в отказе от фатализма избранные (electi) доказывают и испытывают свою избранность» (S. 111, Anm. 4). Эта идея испытания избранности прочно сохранилась в психологии протестантских народов: отзвуки ее ясно слышатся в следующем изречении Гете: Wie kann man sich selbst kennen lernen? Durch Betrachten niemals, wohl aber durch Handeln. Versuche deine Pflicht zu tun, und du weisst gleich, was an dir ist. – Was aber ist deine Pflicht? Die Forderung des Tages[653].
Это совпадение не удивительно: Гете ведь жил в эпоху роста промышленного капитализма, а учение об испытании избранности посредством работы в Beruf, как мы скоро увидим, вполне отвечало потребностям капиталистического развития.
Охарактеризованную выше религиозную этику кальвинизма Вебер называет мирским аскетизмом.
Основные особенности этой этики: преодоление status naturae путем передачи себя в руки Божии, систематическая работа во славу Божию, преобладание постоянных мотивов психики над искусственно подавляемыми аффектами – свойственны всякому аскетизму, в том числе и католическому, внемирскому аскетизму. Ведь каждый католический монах воспитывался как работник божий. Но глубокая пропасть лежала между католическим и пуританским аскетизмом: кальвинисты были монахами, оставаясь в миру. Если католики из монахов делали божьих работников, то кальвинисты, наоборот, божьих работников превращали в монахов. Их «избранные», становясь аскетами и оставаясь в миру, проникались ненавистью и презрением к ближним, не умевшим в процессе аскетического труда и самоконтроля дать доказательства своей избранности. «Бог помогает тому, кто сам себе помогает» – этот девиз сделался основным нравственным принципом их отношения к людям.
Да и самый контроль своей избранности выливался в неслыханно мирские формы. Место исповеди заняли религиозные дневники, которые должны были содержать точный отчет об отношениях между верующим и Богом, причем Бакстер и Бениан сравнивали их с отношениями между кредитором и должником. И над всем этим тяготел Дамоклов меч потусторонней осужденности, которая уже наверное гроэит всякому, не умеющему доказать свою кредитоспособность по отношению к Богу.
Эта идея предопределенности «потусторонней» жизни резко отличает кальвинистское предопределение от магометанского фатализма. В исламе считалась предопределенной вся земная жизнь человека, поэтому магометанская «судьба» напоминает греческую Мойру, и практическим последствием магометанского фатализма могла быть лишь военная, рыцарская храбрость, но отнюдь не рационализация жизни (RS, I, S. 102. Anm. 2). Между тем кальвинист в земной жизни свободен: предопределена только потусторонняя его жизнь. Но она бросает огромную тень на всю его земную жизнь, которая становится лишь приготовлением к потусторонней участи. Рационализация жизненного поведения в миру под знаком потустороннего, – говорит Вебер, – была последствием концепции Beruf, созданной аскетическим протестантизмом. Христианский аскетизм, вначале убегавший от мира в уединение, уже господствовал в форме церкви над миром, отрекаясь от него в стенах монастыря. Но при этом он оставлял в неприкосновенности естественный, непринужденный характер мирской повседневной жизни. Теперь он вступил на житейское торжище, захлопнул за собою ворота монастыря и принялся пропитывать своей методикой как раз мирскую повседневную жизнь, преобразуя ее в рациональную жизнь в миру, но не от мира сего и не для этого мира» (S. 163).
В своей характеристике тех изменений, которые претерпели религиозные идеи пуритан в ходе дальнейшего развития и которые сыграли большую роль в формировании капиталистического духа, Вебер исходит из аскетического движения второй половины XVI! в. Он хочет дать представление о том, каковы были идеи, господствовавшие в этом движении накануне превращения религиозного мирского аскетизма в капиталистический утилитаризм. Этим объясняется и выбор источников: по этой причине Вебер оставляет в стороне постановления гугенотских синодов и баптистскую литературу, сосредоточивая внимание преимущественно на английском пуританине XVII в. Ричарде Бакстере (1615–1691), признанном богослове того времени, вышедшем из кальвинизма, и привлекая лишь для параллели трактаты представителя пиетизма Шпенера, кВакера Барклея и др.
Во многих богословских трактатах пуритан XVII в., особенно в работах Бакстера, очень сильны «антимаммонистические тенденции»; учение Бакстеоа с капиталистической точки зрения, разумеется, должно казаться отсталым. «Но, – говорит Вебер, – я как раз и хочу показать, как, несмотря на «антимаммонистическое» учение, дух этой аскетической религиозности, точно так же, как и в монастырском хозяйстве, породил экономический рационализм потому, что эта религиозность премировала самое главное – аскетически обусловленные, рациональные импульсы поведения» (RS, I, S. 165, Anm. 3).
Запомнив хорошенько эту весьма существенную оговорку, последуем за Вебером.
Основной лейтмотив всех рассуждений Бакстера – работа. Она выполняет две одинаково важные функции: 11 дает в руки человеку могучее орудие против всяческих плотских (в том числе и сексуальных) искушений и 2) делает осмысленным земное странствие верующего, становясь самоцелью, а тем самым и основной целью его жизни. Выполняя первую функцию, работа оберегает верующего от опасности впасть в status naturae, в обожествление рукотворного. Ибо наслаждение земными радостями ради наслаждения ими – величайший грех; греховно «искусство для искусства», эротика во имя эротики, богатство для богатства. Греховно и инстинктивное бессознательное стремление к этим земным радостям. Греховна любовная страсть, ведущая к бездеятельному наслаждению радостями чувства и чувственности; но законный и степенный брак на всю жизнь, брак не по любви и не по расчету, а по рассудку – угоден Богу, ибо он становится средством прославления Бога путем усиленного производства здорового и работящего потомства; жизнь в таком браке тоже превращается в один из видов работы во имя Божие и во славу Божию – недаром сказано: «Плодитесь и множитесь».
Точно так же наслаждение богатством, «почивание на лаврах» приобретенного или неумеренное расходование его для личных надобностей греховно, методический же труд по приобретению богатства угоден Богу. Ибо потребление богатства отрывает от стремления к святой жизни: «вечный покой святых» возможен лишь в потустороннем мире; в земной жизни покой – не признак святости, а наоборот, знамение греховности и осужденности; тот, кто «почиет на лаврах», тем самым показывает, что он не принадлежит к числу избранных, что он охотно поддается искушению заменить тяжкий труд прославления Бога делами своими – гораздо более легким трудом обожествления рукотворного. Греховно стремление к барышу ради барыша; но это же самое стремление как средство прославления Бога и служения Ему свято. Если верующему и разрешается иногда «погружаться в искусства, в науки, предаваться мечтам и страстям» (ибо слаб человек), то это, во всяком случае, не должно ничего стоить. Человек ведь – только управитель божьего имущества и не должен расточать его иначе, как во славу Божию.
Некогда было сказано: «отдайте кесарю кесарево, а Богу – Божье». Ничто не может быть столь враждебно пуританству, как эта евангельская формула. Нет на свете ничего, что принадлежало бы кесарю; все – и сам кесарь, и царство его – принадлежит Богу. «Отдайте Богу и Божье, и кесарево, ибо все – Божье», – так можно было бы перефразировать в пуританском духе евангельское изречение. Но отдавать себя Богу нужно, оставаясь в миру и работая в нем, ибо Бог так хотел: он поставил слабых людей блюстителями своего великого дела и обратился к ним не с христианской, а с грозной Заратустровой заповедью: Werdet hart! («Будьте стойкими»). И главное: Arbeitet hart! («Трудитесь стойко!*). Каждый час должен принадлежать Богу. Потеря времени – величайший грех. «Отсутствие желаний на земле недостижимо, – говорит один из пуританских богословов, – и оно недостижимо именно потому, что Бог не хотел этого» (RS, I, S. 166, Anm. 2). Поэтому следует не избегать желаний, а направлять их в сторону, угодную Богу, т. е. работать. Здесь работа, как видим, становится уже самоцелью. Воздержание от плотских искушений – первая функция работы – создало единообразный стиль жизни, привело все к одному знаменателю. «Та могучая тенденция к униформированию всего стиля жизни, которая ныне вызывается капиталистическими интересами стандартизации производства, – говорит Вебер, – имеет свою идеальную основу в отрицании «обожествления рукотворного» (S. 187–188).
Работа хорошо выполнила свою первую функцию – служить оградой от земных вожделений: она зажала в железные тиски аскетического долга личное потребление. Но, пожалуй, еще важнее была вторая ее функция, ибо работа как самоцель развязала руки безграничному производству ради производства. Все, что способствовало личному потреблению, признавалось греховным обожествлением рукотворного; все, что развивало и толкало вперед производство, награждалось религиозной премией – сознанием избранности, объявлялось богоугодным делом и священной обязанностью верующего. «Собственность считалась одиозной в феодально–сеньориальной форме ее потребления, но не сама по себе» (S. 176, Anm. 3).
Изречение апостола Павла: «Не трудящийся да не ест», – которое Фома Аквинский толковал в духе необходимости работы для поддержания жизни общества и его членов, Бакстер относил не к целому, не ко всему роду человеческому как таковому, а к каждому индивидууму, каково бы ни было его имущественное и социальное положение. И богач должен трудиться: его богатство отнюдь не освобождает его от выполнения заповеди апостола Павла: и он не должен есть, не работая. Пусть он материально не нуждается в заработке, но в религиозном отношении труд так же необходим ему, как и бедняку. Ибо для всех без различия Бог приготовил Beruf, и работа в нем веление, исходящее от Бога и предписывающее индивидууму действовать во славу Божию. «Этот как будто бы незначительный нюанс, – говорит Вебер, – имел очень серьезные психологические последствия и был связан с дальнейшим развитием того провиденциального толкования экономического космоса, которое было свойственно уже схоластике» (S. 172). Уже Фома Аквинский считал разделение труда и деление общества на профессиональные группы проявлением божественного мирового плана. Но, по мнению Фомы Аквинского, люди включены в этот космос чисто случайно, ex causis naturalibus. Для Лютера пребывание каждого индивидуума в том положении, в которое его поставил Бог, стало религиозным долгом. По учению пуритан, провиденциальную цель разделения труда можно узнать по его плодам. О них Бакстер распространяется «высоким штилем», напоминающим апофеоз разделения труда у Адама Смита. «Вне определенного Beruf, – говорит Бакстер, – человеческий труд является лишь непостоянной и случайной работой, и человек больше тратит времени на лень, чем на работу»; «тот, кто работает в Beruf, выполняет свою работу в известном порядке, в то время как другие находятся в состоянии постоянной запутанности, и их дела не знают ни времени, ни места»; «поэтому определенный Beruf – самое лучшее для всякого человека» (S. 174).
Можно, конечно, работать одновременно в разных Beruf и даже менять свой Beruf. Но это позволительно в том случае, если делается с богоугодными намерениями, т. е. с целью совместить несколько наиболее полезных Beruf или взяться за новый, который представляется более полезным, чем прежний. «Полезность данного Beruf, его соответствующая богоугодностъ, – говорит Вебер, – измеряется, правда, в первую голову нравственными масштабами, а затем степенью важности для общества тех благ, которые производятся в этом Beruf, но в качестве третьего и практически самого важного критерия выступает частнохозяйственная его доходность» (S. 175).
В пуританской литературе неоднократно подчеркивается, что Бог нигде не повелевает любить ближнего больше, чем самого себя; он заповедал лишь любить ближнего, как самого себя. А следовательно, существут и долг любви к самому себе. Так, если кто–нибудь знает, что сумеет лучше распорядиться своим имуществом, чем его ближний, а значит, и лучше употребить его во славу Божию, то долг любви к ближнему отнюдь не может предписать ему отдать этому ближнему свое имущество (S. 175, Anm. 2). «Если Бог указует вам путь, на котором вы без ущерба для вашей души или для других можете законным образом нажить больше, чем другим путем, – говорит Бакстер, – и если вы отклоняете это указание Божие и выбираете менее выгодный путь, то вы убиваете одну из целей вашего призвания, отказываетесь быть управляющим Бога и принимать Его дары, чтобы иметь возможность употребить их для Него, если Он того потребует. Не для плотского наслаждения и греха, но для Бога должны вы работать, чтобы быть богатыми» (S. 176)[654]
Этот утилитаризм явился психологическим последствием безличного толкования любви к ближнему, о котором была речь выше: экономический космос создан Богом во славу Божию, и поэтому, поскольку принимаются во внимание и посюсторонние цели, Бог хочет благополучия целого, безличной выгоды. Мы видели уже, как эта безличная выгода сочетается с личной путем привнесения потусторонних целей и утверждения их примата и господства над целями посюсторонними. Правда, эта личная выгода тоже носит безличный и вначале чисто религиозный характер: приобретение личного богатства во имя безличных и сверхличных целей (устроения социального космоса и служения Богу) является платой за вечное блаженство в потустороннем мире. Но в ходе дальнейшего развития эти религиозные корни утилитаризма стали постепенно отмирать, а параллельно с этим отмиранием безличный, абстрактный характер приобретательской деятельности все более и более становился одним из принципов капиталистического производства. На переходной стадии этого процесса «провиденциальное толкование шансов прибыли стало лишь этически преображать интересы делового человека (Gesch?ftsmensch), точно так же как резкое подчеркивание аскетического значения определенного Beruf стало служить лишь средством этического преобразования современного чиновничества» (S. 178).
Этот процесс начался, как мы знаем, с религиозного апофеоза работы. Но на смену апофеозу труда пришел апофеоз наживы. Та мысль, что человек – управляющий Божьего имения, в ходе капиталистического развития конкретизировалась следующим образом: человек – «машина для приобретательства»; чем больше имущество, тем сильнее ответственность перед Богом.
Параллельно с этой эволюцией идей шла эволюция капиталистических отношений: хозяйственная жизнь предприятия становилась независимой от личного Хозяйства предпринимателя; частный капитал резко отделялся от капитала, вложенного в депо. Этот процесс превращения человека в слугу капитала сопровождался в религиозной области представлением о «деле», о «предприятии» как о corpus mysticum. Человек, все более и более превращавшийся из управляющего на службе у Бога в машину на службе у капитала, должен был выполнять какой–то категорический императив, который становился тем иррациональнее, чем дальше заходило отмирание религиозных его корней. «Основное положение аскетизма: entsagen
sollst du, sollst entsagen, – говорит Вебер, – в капиталистической его форме звучало так: егууегкдеп sollst du, sollst erwerben» (S. 190, Arvrvi 1)[655].
Мирской аскетизм привел к психологическим последствиям, которые оказались противоположными его собственным исходным точкам зрения и в то же время вытекали из них с такою логической необходимостью, что даже на этих последствиях лежит яркая печать их аскетического происхождения. Капитализм, конечно, секуляризировал в конце концов мирской аскетизм, который, по удачному замечанию Вебера, своей эволюцией как бы иллюстрирует справедливость известного изречения гётевского Мефистофеля, с той только разницей, что аскетизм хотел добра, а создал зло! Aber hier war nun die Askese die Kraft, die «stets das Gute will und stets das B?se schafft» – das in ihrem Sinn B?se; den Besitz und seine Versuchungen (S. 191–192)[656] Образование капитала путем принудительной аскетической бережливости (S. 192) – вот результат мирского аскетизма! Этого ли хотели его первые пророки и проповедники? Конечно, Кальвин и первые кальвинисты и не помышляли об этом. Но уже у Бениана (1628–1688) мы находим следующую аргументацию: «Надо сделаться религиозным, чтобы стать богатым…, ибо почему человек стал религиозным, безразлично» (S. 197, Anm. 1). Таким образом, к мирскому аскетизму более поздней поры парафраз изречения Мефистофеля приложим лишь в том смысле, что он стремится к религиозному освящению приобретательства, а создает в конечном счете совершенно иррелигиозный буржуазный этос.
Это понимал и от этого предостерегал верующих основатель секты методистов, богослов XVIII столетия Джон Уэсли (1703–1791): «Я опасаюсь того, – писал он, – что чем больше растет богатство, тем все уменьшается значение религии. Поэтому я не вижу, как по всему ходу вещей могло бы стать возможным длительное пробуждение истинной религиозности. Ибо религия неизбежно должна порождать усердие в труде и бережливость, а эти качества не могут произвести ничего иного, кроме богатства. Но с увеличением богатства растут гордость, страсти и любовь к мирскому во всех ее формах. Как же возможно при таких условиях, чтобы методизм, т. е. религия сердца, сохранился в своем теперешнем состоянии цветущего дерева? Методисты везде становятся прилежными и бережливыми; следовательно их имущество растет. А соответственно растут и их гордость, страсти, плотские и мирские наслаждения, высокомерие в жизни. Форма религии остается, но дух ее постепенно исчезает. Неужели нет никакого способа задержать этот продолжающийся упадок чистой религии? Мы не должны препятствовать людям быть прилежными и бережливыми.
Мы должны предостеречь всех христиан, чтобы они все–таки наживали и сберегали то, что они могут, т. е. в результате становились богатыми».
Затем Уэсли предостерегает приобретателей от скупости и советует им «не только наживать, но также и давать все, что они могут» (S. 196–197).
Как видим, Уэсли, который не только понял связь мирского аскетизма и капиталистического духа, но и обрисовал процесс отмирания религиозных корней этого последнего, не смог предложить ничего иного, кроме компромисса буржуазного этоса с евангельскими добродетелями. Кто стал победителем в этом союзе двух неравных сил, показало победоносное шествие промышленного капитализма в XVIII–XIX вв. Оно же обусловило и компромиссный характер рассуждений Уэсли. «Семнадцатое столетие – эта эпоха кипучей религиозной жизни – завещало своему наследнику–утилитаристу чудовищно спокойную; фарисейски спокойную совесть в процессе наживы денег» (S. 198). «Сознавая себя избранником Божиим и чувствуя на себе Его благословение, – говорит Вебер, – капиталистический предприниматель… мог и считал своим долгом следовать приобретательским интересам. Могущество религиозного аскетизма отдавало в его распоряжение трезвых, совестливых, чрезвычайно трудоспособных рабочих, прочно державшихся за работу как за богоугодную цель жизни» (S. 198)[657].
«Интересы Бога и работодателя сливаются, – продолжает Вебер, – даже Шпенер, обычно советующий оставлять время для размышлений о Боге, считает само собою разумеющимся, что рабочие должны удовлетворяться самым незначительным количеством свободного времени даже в воскресенье» (S. 198, Anm. 2). «Средневековая этика не только терпела нищенство, но даже прославляла его в форме нищенских орденов». «На долю пуританского аскетизма выпало участие в том жестоком английском законодательстве о бедных, которое произвело решительное изменение в этой области. И он мог принимать участие в нем, ибо протестантские секты и строго пуританские общины действительно не знали бедных в своей среде» (S. 199–200). «Протестантский аскетизм легализировал эксплуатацию специфической готовности рабочих к труду, ибо он и денежное приобретательство предпринимателя истолковал как Beruf» (S. 200).
«Толкование работы как призвания (Beruf) стало столь же характерным для современного рабочего, как соответствующий взгляд на приобретательство для предпринимателя» (S. 201). «Деятельность Бакстера в общине Киддерминстер является типическим образчиком того, как аскетизм воспитывал массы, приучая их к работе и – выражаясь марксистскими терминами – к производству прибавочной стоимости и как он тем самым впервые сделал возможным применение их труда в капиталистических формах производства (в домашней промышленности и в ткачестве)» (S. 200, Anm. 3). «Аскетизм лишил труд его посюстороннего мирского очарования и придал ему потустороннее направление. Работа в Beruf как таковая стала считаться угодной Богу. Безличность современного труда, его бедная радостями бессмысленность, с точки зрения индивидуума, здесь пока еще остается религиозно преображенной. Капитализму в эпоху его возникновения нужны были рабочие, которые позволили бы себя экономически эксплуатировать во имя совести. Теперь он стал властелином и может заставить их быть готовыми к труду И без потусторонних премий» (S. 200, Anm. 4). «Пуританин хотел быть человеком определенной профессии, мы должны быть им» (S. 203).
Этим заканчивается – мы хотели бы сказать: на этом месте обрывается – исследование Вебера о протестантизме. Он сам, по–видимому, живо чувствует всю фрагментарность своей работы. Ибо в заключение он намечает задачи, стоящие перед исследователем, который пожелал бы продолжить начатую им работу в том же направлении. По мнению Вебера, следовало бы показать значение аскетического рационализма и для содержания социально–политической этики, проанализировать его отношение к гуманистическому рационализму, к развитию философского и научного эмпиризма, а затем проследить исторически по отдельным странам его эволюцию от первых средневековых его начатков до превращения в чистый утилитаризм. «Только таким путем можно было бы установить степень культурного значения протестантского аскетизма в его отношении к другим пластическим элементам современной культуры» (S. 205). После этого уяснилась бы и зависимость протестантского аскетизма от всей совокупности общественных, в особенности экономических, условий.
Эта грандиозная программа осталась невыполненной. Перед нами лишь фрагмент, намечающий только одну сторону связи религиозных и экономических явлений. Обратимся же к анализу этого фрагмента как образчика методических приемов Вебера, применяемых им в ходе его конкретной, историко–социологической работы.
| <<< Назад 1. Общая характеристика «Социологии религий» |
Вперед >>> 3. Анализ исследования Вебера о протестантизме со стороны метода |
- В мире капитализма
- 32. Селекция: основные методы и достижения
- 4. Морфология бактерий, основные органы
- Глава 4. ОСНОВНЫЕ СРЕДЫ ЖИЗНИ И АДАПТАЦИИ К НИМ ОРГАНИЗМОВ
- 17. Основные осложнения химиотерапии
- Основные этапы формирования мирового хозяйства
- Основные типы стран современного мира
- 3.4. Основные пути приспособления живых организмов к условиям среды
- Основные виды природных ресурсов
- § 69. Основные свойства популяций
- ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ПРОКАРИОТ
- 4.1.2. Основные свойства водной среды